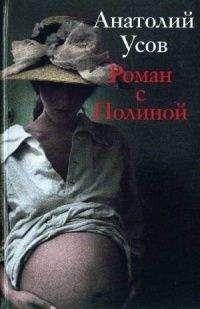— Что вы хотите, господин Красавец? — пропела она своим дивным голосом.
— Линзы от близорукости и… по цвету, — сказал я и снял очки, чтобы она рассмотрела, какой я на самом деле красавец.
— Да вижу я. Вижу, — пропела она. — Я увидела сразу. Господи Боже мой, ну зачем вы хотите быть такими, как все?
Я пожал плечами. Есть вопросы, на которые я не знаю, как отвечать.
— Хочу, — сказал я. — И точка.
— Вот дитяточка, — рассмеялась она звонким и чистым, как лесной ручеек, смехом, — «хочу», да и все тут тебе. Н у, садитесь, господин «Хочу», — она показала на стул рядом с собой. — Клиент — хозяин, его слово для нас закон.
Она села ко мне поближе и стала мерить мое лицо каким-то прибором. У нее было полно этих разных приборов, а еще было свежее, наверное, от какой-то жвачки, дыхание. Я опустил свои цветные глаза и увидел ее белые, как две луны, колени между моих ног. У меня закружилось в голове, потемнело в глазах, я, не понимая, зачем это делаю, и зная наперед, что за все всегда придется ответить, крепко сжал эти полные луны ногами.
Ее прекрасные брови поднялись удивленными домиками, как руки у одного всем нам известного пахана, когда он нас куда-то тогда агитировал, чтобы там запихнуть в какой-нибудь темный угол и снять носки и кальсоны, штаны-то с нас он уже давно снял. А в глазах появилось странное сонное выражение, от которого я с тех пор просто дурею.
— Зачем же вы так? — прошептала она, испуганно расширяя их и мерцая вдали влажным и нежным своим нутром.
— Не знаю, — просипел я, как последний дебил.
— Ну, не здесь же, — прошептала она.
— Почему? — спросил я и вяло пожал плечами. Они у меня, уважаемые братаны, тряслись от нервного перенапряжения. — В другое место я не дойду, я умру дорогой…
— Боже мой, надо же как… Надежда Павловна, не сходите за кефиром? — пропела она ласковым голосом, которому никто и ни в чем не смог бы никогда отказать.
— Тогда я прямо сейчас и пойду, а то они закроют вот-вот на обед, — озабоченно сказала старая санитарка.
Моя красавица дала деньги старенькой на кефир. Старуха поковыляла из кабинета изогнутыми больными ногами. Она закрыла за нею дверь на ключ, подошла ко мне, распахнула полы белоснежного накрахмаленного халата, под которым была только шелковая сорочка, села мне на колени, обняла холеными замечательно пахнущими руками и спросила:
— Зачем ты так скверно ведешь себя, милый мальчик?.. Только, пожалуйста, будь очень нежным…
Н у, я, конечно, был нежным… Нет, пацаны, я не помню подробности, когда вы видите сон, разве помните вы подробности?.. Вы помните, что видели сон, и пытаетесь угадать, зачем Всевышний показал вам его…
И я помню, что видел чудный сон, и до сих пор хочу угадать, зачем Господь показал его мне… Но сам сон не помню. Я помню, что за какие-то полчаса я завершил все раз десять, не меньше, и с каждым разом совсем не слабел, но хотел все больше и больше… Еще помню, что между нашими телами, там, где мы неразывно касались друг друга, образовалась белая подушка из пены, и она стекала вниз по ее нежным ногам… Помню про эту старую мымру на больных костылях, но вам это будет неинтересно… Н у, если интересно, тогда я скажу. Эта кикимора догнала меня в коридоре и нашептала:
— Милок… Не трогай ты ее, дурачина. Тебя могут убить за Диану Иосифовну. «Кто-кто…» Дед Пихто. Ты знаешь, какие у нее друзья?.. Почаще смотри телевизор, может, сообразишь.
Но разве кто-то из нас слушает разумные советы?.. А если бы слушали, мы бы с нашими мозгами не здесь загорали. Моя же матрона, а она была вылитая матрона из Древнего Рима, именно таких я видел на фресках, когда в своем универе занимался историей древнего мира, подарила мне напоследок свою визитку, где очень красивыми буквами было написано, вот это я помню, потому что часто потом смотрел на нее — «С…ских Диана Иосифовна. Врач офтальмолог высшей категории. Кандидат медицинских наук».
— А ты не хочешь дать мне свой телефон? — спросила она потом…
— Я бедный, Диана Иосифовна, — зачем мне трепаться, если человек меня уважает?
— У тебя есть другие достоинства. А богатство — я сама безумно богата.
Нет, адреса я не дам. Я наводчиком не работаю. Я сказал, «никому не дам». А н у, брысь от меня, зенки выколю…
Ну, а насчет достоинств она, конечно, загнула. Пожалела меня, потому что сама человек хороший… Нет у меня никаких достоинств… Н у, я сказал «нет», значит, нет!.. Я не буду показывать. Я сказал — не буду!.. Н у, кто нальет, у кого есть спиртяга в заначке?..
На доске у круглого дома, между советом ветеранов и банком, я увидел объявление, которое привлекло мое внимание непонятной гармонией. Оно было скромно и в то же время притягивало к себе. Я смотрел на него и хотел понять, почему — бумага серая, как у других, заурядный неброский шрифт заурядной «Эрики», чем же тогда? Думая об этом, я прочитал его, хотя обычно не читаю никаких объявлений.
Содержание мне показалось тоже необыкновенным. Там было написано: «Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии СССР, вымоет вашу машину, отладит карбюратор, заменит масло и клапана». Кто знает, может, и другие объявления были необыкновенными, я почитал, нет, заурядная скукота, куплю-продам, сниму и обменяю.
По русской традиции я люблю и знаю кино, я смотрел все фильмы Тарковского, знаю Антониони, Феллини, Виго, не читая титров, отличу одного от другого. При слове «кинофестиваль» у меня замирает сердце.
Скажу честно, в мои прекрасные юные годы, когда казалось, все пути были открыты и на каждом ожидал доброжелательный умный наставник, а сам я был добрый и искренний, и меня любила такая же чистая девочка, и нам было обоим по четырнадцать с половиной лет, я даже хотел стать кинорежиссером, потому что девочка мечтала стать кинозвездой.
Дивное сладкое время, неужели никогда не вернуться в тебя? Хотя бы на один миг, перед самой смертью.
Она написала записку: «Давай с тобой дружить». И мы дружили все лето в пионерском лагере и целый год в городе, хотя учились в разных школах и жили в противоположных концах Москвы — час сорок четыре минуты на двух автобусах и метро.
Мы могли встречаться только по воскресеньям, зато уж как мы встречались — в каждом театре были по четыре раза, ходили по музеям, выставкам и галереям, заучивали каждую картину наизусть, потому что во ВГИКе был такой страшный экзамен «собеседование», объясняли друг другу почему она нравится, какая там композиция, какой сюжет, какой колорит и какая судьба художника.
Как сейчас помню, Николай Ге, последние, неоконченные работы, мы долго говорили о необычной манере, о резких динамичных контрастах, почему именно так стоит Понтий Пилат, почему от него падает тень, почему Иисус целиком в тени.
Ах, как нам нравилось все понимать, всему находить объяснение, жить насыщенной духовной жизнью.
Я никогда не был таким умным и организованным, как в тот год. У Тани в Сивцевом Вражке жила двоюродная бабушка, из-за возраста она все путала, думала, мы взрослые и женаты. Мы заезжали к ней в гости, дарили цветы и торт, в дешевое время 84-го года они были двум школьникам по карману. После обеда бабушка стелила нам на софе, говорила:
— Отдохните чуток, а я с тортиком к подружке схожу.
Я навсегда запомнил и полюбил чудный запах старых квартир. И что самое интересное, записка пришла ко мне случайно. В пионерском лагере Танечке было скучно и одиноко, она написала ее без адресата и во время КВН выстрелила наугад.
Наугад и такое счастье, такая счастливая совместимость. Я так благодарен ей. Она мне так много дала. Я не лазил по чердакам и подвалам, не нюхал «момент» и не жрал «колеса». У меня каждая минута была занята, я готовился к встрече с ней, чтобы было что рассказать и быть интересным.
Неоконченная «Голгофа» Ге с испуганным растерянным некрасивым Христом в середине, которая принесла автору неприязнь и страдания, было последнее, что мы обсуждали. На свою беду я познакомил с Таней закадычного друга Толика С., человека в общем-то никудышного, глупого, только и было, что римский профиль да глаза томные и воловьи. Она выскочила за него в 10-м классе и забыла, что хочет сделаться кинозвездой. А я не поступал во ВГИК и не стал режиссером, а то писал бы сейчас объявления: «Опытный кинорежиссер умело помоет вашу машину».
Он спросил у меня:
— Где вы желаете, чтобы я мыл, — у вашего дома или у моего?
— А в чем разница? — спросил я.
— Действительно, в чем? — кажется, он немножко выпил. — Ну, вот вы новый русский, например, из армян, вам будет лестно, поскольку я живу в элитном доме, забитом под крышу и даже более новыми русскими из армян, что я мою вашу машину у них на глазах.
— А вам не кажется, что это унижение для вас самого?
— Объясняю, — в трубке было слышно, как на том конце провода несколько раз булькнуло. — Иногда кажется. Но, дорогой мой, мне шестьдесят два, у меня бронхиальная астма, мне постоянно необходимо очень дорогое лекарство, которое не продается теперь по льготной цене ни хроникам, ни инвалидам, и притом каждый день, заметьте себе, оно дорожает!