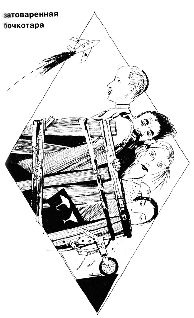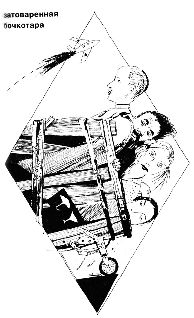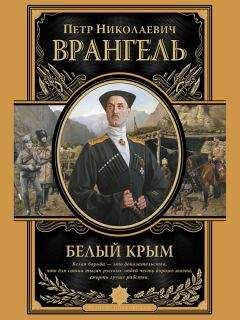Ознакомительная версия.
Он тоже подхалимничал перед Виктором Ильичом, чувствуя, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил, превыше всякой осторожности, и невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый «детский маг».
Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку СИМА ПОМ…
Конец надписи скрыт пижамным рукавом.
«Сима! Так какая же еще Сима, если не моя? Да неужто это рыло, нос пуговицей, Серафиму мою лобзал? Да, может, это Бородкин Виктор Ильич? Да ух!» — керосинной, мазутной, нефтяной горючей ревностью обожгло Володькины внутренности.
— Мат тебе, дядя! — рявкнул он и выпучился на противника, приблизив к нему горячее лицо.
Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию — куда ж подать короля, подать было некуда. Хорошо бы съесть королеву, да нечем. В раму взять? Жгентелем протянуть? Не выйдет. Нету достаточных оснований.
И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке синие буковки СИМА ПОМНИ ДРУ…, остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.
«Серафима, неужели с этим недоноском ты забыла обо мне? Да, может, это и есть тот самый Телескопов, обидчик, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулит ан, текучая рабочая сила?» — Виктор Ильич выгнул шею, носик его запылал, как стоп-сигнал милицейской машины.
— Телескопов? — с напором спросил он.
— Бородкин? — с таким же напором спросил Володя.
— Пройдемте, — сказал Бородкин и встал.
— А вы не при исполнении, — захохотал Володя, — а во-вторых, вам мат, и в-третьих, вы в пижаме.
— Мат?
— Мат!
— Мат?
— Мат!
— А вы уверены?
Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток, залился красочными, вдохновенными руладами, в которых трепетала вся ею оскорбленная душа.
«Бежать, бежать», — думал Володя, но никак не мог сдвинуться с места, тоже свистал в два пальца. Важно ему было сказать последнее слово в споре с Виктором Ильичом, нужна была моральная победа.
Дождался — вырос из-под земли старший брат младший лейтенант Бородкин в полной форме и при исполнении.
— Жгентелем его, жгентелем, товарищи Бородкины! — радостно заблеяли болельщики. — В раму его посадить и двойным дуплетом…
Видимо, сейчас они вкладывали в эти шахматные термины уже какой-то другой смысл.
Вот так Володя Телескопов попал на ночь глядя в неволю. Провели его под белы руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно бочкотары, посадили в КПЗ, принесли горохового супа, борща, лапши, паровых битков, тушеной гусятины, киселю; замкнули.
Всю ночь Володя кушал, курил, пел, вспоминал подробности жизни, плакал горючими слезами, сморкался, негодовал, к утру начал писать письма.
Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины. Младший брат листал Уголовный кодекс, выискивал для Володи самые страшные статьи и наказания. Старший, у которого душевные раны, связанные с Серафимой Игнатьевной, за давностью лет уже затянулись, смягчал горячего братца, предлагал административное решение:
— Поброем его, Витек, под нуль, дадим метлу на пятнадцать суток, авось Симка поймет, на кого тебя променяла.
При этих словах старшего брата отбросил Виктор Ильич Уголовный кодекс, упал ничком на оттоманку, горько зарыдал.
— Хотел забыться, — горячо бормотал он, — уехал, погрузился в шахматы, не вспоминал… появляется этот недоносок, укравший… Сима… любовь… моя… — скрежетал зубами.
Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья? Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждались различные варианты спасения.
Ирина Валентиновна, с гордо закинутой головой, с развевающимися волосами, изъявила готовность лично поговорить о Володе с братьями Бородкиными, лично, непосредственно, тег-а-тет, шерше ля фам. В последние дни она твердо поверила наконец в силу и власть своей красоты.
— Нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами, — категорически пресек ее благородный порыв Шустиков Глеб, — поговорю с ними в частном порядке, и делу конец.
— Нет-нет, друзья! — пылко воскликнул Вадим Афанасьевич. — Я подам в гусятинский нарсуд официальное заявление. Я уверен… мы… наше учреждение… вся общественность… возьмем Володю на поруки. Если понадобится, я усыновлю его! С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся, затянулся трубочкой, выпустил дымовую завесу, чтобы скрыть за ней свои увлажнившиеся глаза.
Степанида Ефимовна полночи металась в растерянности но площади, ловила мотыльков, причитала, потом побежала к гусятинской товарке, лаборанту Ленинградскою научного института, принесла от нее черною петуха, разложила карты, принялась гадать, ахая и слезясь, временами развязывала меток, пританцовывая, показывала черного петуха молодой луне, что-то бормотала.
Старичок Моченкин всю ночь писал на Володю Телескопова положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно Хочешь написать «политически грамотен», а рука сама пишет «безграмотен». Хочешь написать «морален», а рука пишет «аморален».
И всю— то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой любезная их бочкотара
Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком Уголовного кодекса под мышкой.
Володя к этому времени закончил переписку с подругами сердца и теперь пел драматическим тенорком:
Этап на Север, срока огромные…
Кого ни спросишь, у всех указ.
Взигяни, взгляни в лицо мое суровое.
Взгляни, быть может, в последний раз!
Степанида Ефимовна перекрестилась.
Ирина Валентиновна с глубоким вздохом сжала руку Глеба:
— Глеб, это похоже на арию Каварадосси. Милый, освободи наше: о дорогого Володю, ведь эго благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга!
Глеб шагнул вперед:
— Але, друзья, кончайте этот цирк. Володя — парень, конечно, несобранный, но, в общем, свой, здоровый, участник великих строек, а выпить может каждый, это для вас не секрет.
— Больно умные стали, — пробормотал старший сержант.
— А вы кто будете, гражданин? — спросил младший лейтенант. — Родственники задержанного или сослуживцы?
— Мы представители общественности. Вот мои документы. Братья Бородкины с еле скрытым удивлением осмотрели сухопарого джентльмена, почти что иностранца по внешнему виду, и с не меньшим удивлением ознакомились с целым ворохом голубых и красных предъявленных книжечек.
— Больно умные стали, — повторил Бородкин-младший.
Вперед выскочил старик Моченкин, хищно оскалился, задрожал пестрядиновой татью, направил на братьев Бородкиных костяной перст, завизжал:
— А вы еще ответите за превышение прерогатив, полномочий, за семейственность отношений и родственные связи!
Братья Бородкины немного перепугались, но виду, конечно, не подали под защитой всеми уважаемых мундиров.
— Больно умные стали! — испуганно рявкнул Бородкин-младший.
— Гутень, фисонь, мотьва купоросная! — гугукнула Степанида Ефимовна и показала вдруг братьям черного петуха, главного, по ее мнению, Володиного спасителя.
Выступила вперед вся в блеске своих незабываемых сокровищ Ирина Валентиновна Селезнева.
— Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчины…
Младший Бородкин выронил Уголовный кодекс. Старший, крепко крякнув, взял себя в руки
— Вы, гражданка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации. Задержанный в нетрезвом виде Телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. Что это такое, спрашивается? Отвечается: по меньшей мере злостное хулиганство. Некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова, а чем это для него пахнет? Но мы, говарищ-очень-красивая-гражданка-к-сожалению-не-знаю-как-величать-в-надежде-на-будущее-с-голубыми-глазами, мы не звери, а гуманисты и дадим Телескопову административную меру воздействия. Пятнадцать суток метлой помашет и будет на свободе.
Младший лейтенант объяснил это лично, персонально Ирине Валентиновне, приблизившись к ней и округляя глаза, и она, польщенная рокотанием его голоса, важно выслушала его своей золотистой головкой, но когда Бородкин кончил, за решеткой возникло бледное, как у графа Монтекристо, лицо Володи.
— Погиб я, братцы, погиб! — взвыл Володя. Ничего для меня нет страшнее пятнадцати суток! Лучше уж срок лепите, чем пятнадцать суток! Разлюбит меня Симка, если на пятнадцать суток загремлю, а Симка, братцы, последний остров в моей жизни!
После этого вопля души на крыльце КПЗ и вокруг возникло странное, томящее душу молчание.
Ознакомительная версия.