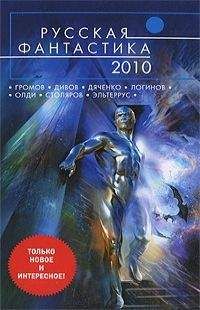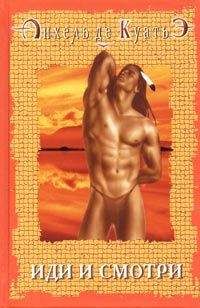Он вышел. Машка тут же пересела ко мне на кровать, уставилась выжидательно.
– Что? – спросил я.
– Давай переедем? И доктор советует. Уволишься – и проблем нет. Квартиру продадим, купим домик… огород свой, хозяйство. Приставать никто не будет. Давай?
Жена ткнулась сухими губами в щеку. Я улыбнулся.
– Тоже тебя люблю, – шепнул на ухо. – А переезжать не стану, не уговаривай. – Обнял, забыв о руке с воткнутой капельницей. Игла дернулась, и я скривился от кольнувшей боли.
Машка заметила, бросилась помогать. Нет уж, лучше сам: такую неумеху, как моя жена, еще поискать. Хозяйство ей, домик – за коровой убирать надо; грядки пропалывать, поливать. Разве справится? Это она на словах бойкая.
Руку снова кольнуло: Машка пыталась вправить иголку.
– Погодь! – осадил я. – Аккуратнее, а то мимо пойдет. – Однажды, помню, чуть руку не разнесло. Если б сестра вовремя не заскочила, ходил бы с дулей на локте.
– Олежка, да что ты, давай я.
– Одеяло вон поправь. Иголку сам.
Машка надула губки, скуксилась, но одеяло поправила. Отстраненно уставилась в окно: подбородок в ладошки уперла, сидит. Обернулась через минуту.
– Так что? – спросила. – Дадут чего?
– В смысле?
– Ну… премию.
Опять двадцать пять. Сколько можно! Других тем мало? – то деревня, то премия.
– Нет.
– Нет? Почему? Такой случай сложный. Я интервью начальника караула читала, там русским по белому: от деревянных домов хорошего не жди, кругом сюрпризы. В больнице вон лежишь.
– Я всегда лежу.
– Ну вот. А премию не дают.
– Да с чего ее давать?! – разозлился я. – Какая сложность? Обычная работа!
– Не ори на меня. – Машка всхлипнула. Поджала губы.
Черт, опять ссоримся.
– Извини, – я приподнял голову, посмотрел Машке в глаза: на ресницах дрожали слезы. Глаза у нее красивые, зеленые-презеленые. Ведьмовские. Кого хочешь очаруют. Но склочная иногда… ох. Прицепится к чему-нибудь – хуже репья. И кто ей о премии наплел? Ноет и ноет, объясняешь – не понимает. Премия на то и премия, что не всякий раз.
– Лежи, – Машка убрала со лба каштановую прядь. – Пусть – обычная, без премий.
– Ну и славно, – я откинулся на подушку. Слабость мерзко растекалась по телу.
– Но… Олег, Митеньке новую куртку надо, ботинки, велосипед он просил, за бассейн платить… – жена методично загибала пальцы.
Ее настойчивость умиляла – на сервелат, значит, хватает, на остальное – нет? Жадина ты, Машка. Цени, что есть.
– Начальник сказал – именные часы дадут.
Она аж подскочила.
– Какие часы? При чем тут часы? Премию они когда дадут?!
Я поморщился: вот ведь, а? – гнет и гнет свое. Махнул рукой: замолчи. Провод – прозрачная змейка, бегущая от капельницы к вене, – угрожающе качнулся.
– Нет у них лишних денег, Палыч и то наравне со мной в ведомости проходит. А уж ребята… Ты что, Машка? Совесть-то поимей.
– Ах, совесть?! – воскликнула женушка. – Это кому еще надо о ней позаботиться! В прошлый раз дали всего ничего, в позапрошлый вообще – только в газете написали. Солить тебе эти статьи и на обед подавать?! А Лаврецкий что пишет? Гад неблагодарный! Прямо помоями обливает! И если они не начнут платить нормально, я… я жаловаться буду! Ребенок раздетый ходит, по дворам где-то шляется, а отец по больницам бока пролеживает. Я из сил выбиваюсь, чтобы семью содержать!..
Всё, Машку несло. Она плела такую несусветную чушь, такую ерунду, что сама устыдилась бы на трезвую голову. Ребенок у нее раздетый ходит, как же. Из сил она выбивается. Ну-ну.
Из коридора донеслись голоса – блеющий тенорок доктора и чьи-то грубоватые, с хрипотцой. Спорили, перебивая друг друга. Им вторило буханье сапог. -…Евгений Иванович, да что вы, в самом деле. Никто его силком не потащит, – прозвучало от двери.
Машка заткнулась. Я узнал голос командира отделения – Палыча.
Снилась пустыня. Воздух дрожит знойным маревом, рубашка липнет к телу, постоянно хочется пить. Я глотаю теплую безвкусную колу, но она плохо утоляет жажду. Сухой и жаркий юго-западный ветер не приносит облегчения. Колючие песчинки секут лицо. Вокруг – людской водоворот. Меланхоличные верблюды и их настырные хозяева. Чумазые детишки. Пронзительное "дай! дай! дай!". Галдящие туристы. Камеры, фотоаппараты, бойкая торговля. Жуликоватые продавцы-арабы. Я стою у подножия громадных пирамид Хеопса и Хефрена и заворожено смотрю на сфинкса. Вечность с усмешкой взирает на толкотню внизу.
Прошлой весной мы с Ниной были в Гизе. Ливийская пустыня – песчаное море с гигантскими волнами-барханами – впечатлила жену, как и гробницы древних фараонов. Мы не вылезали из экскурсий.
Я гляжу на сфинкса, которому без малого пять тысячелетий, и чувствую свою ничтожность. Ветер усиливается; туристы испуганно кричат, тычут пальцами в горизонт. Там клубится тьма. Ветер вздымает раскаленный песок, закручивает грозными вихрями, швыряет в лицо.
Тьма накрывает меня…
Я закашлялся и проснулся. Вскочил, моргая, не сообразив еще, в чем дело. Да что ж ты, Господи… Горло драл едкий дым, глаза тотчас начали слезиться. Комнату заволокла сизая пелена; расползаясь бесформенными клочьями, она собиралась у потолка. Мерзко воняло горелой изоляцией. Духота стояла – будто в бане, когда плеснешь на камни ковшик-другой, и пар сразу обдаст с ног до головы. Утирая со лба пот, я быстро натянул штаны и босиком кинулся в прихожую. Замок нагрелся, жег руки; за стеной истошно, почти на грани истерики вопили, срываясь в захлебывающийся плач.
Нина уехала к родителям – считай, повезло. А я уж как-нибудь выберусь. Жена, конечно, звала с собой, уговаривала, но больше для проформы. Я не любитель ковыряться в земле; не белоручка, совсем нет, однако к природе равнодушен. Не мое это. Так что Нина поехала на тещину дачу одна.
Теща, заядлая огородница, души во мне не чаяла, заботилась, как могла. Урожай с четырех соток получался вполне себе: ягоды, фрукты. Тем и потчевала – и до свадьбы, и после. И бедным мальчиком никогда не называла. Хорошая у Нинки мать – золото, а не теща. А вот мои родители на свадьбу не пришли, ограничились телефонным звонком. Вроде как поздравили.
Чертыхаясь и проклиная всё на свете, кое-как сумел отпереть дверь, рванул на себя – в лицо полыхнуло жаром. На лестничной клетке бушевал огонь, что-то искрило и потрескивало; огромный ком дыма ворвался в прихожую, заставив отшатнуться. Путь вниз был отрезан.
Я навалился на дверь, чувствуя, как в животе – противно, скользко – ворочается страх, а сердце бьется загнанным скакуном. Глаза щипало, дым лез в рот, в нос, вызывая надсадный кашель. Угорю ведь! Ринувшись в зал, ухватил стул и с размаху запустил в окно: стекло разбилось, дым потянулся наружу. Густая муть в комнате прояснялась, от окна шел ток свежего воздуха. Я с присвистом дышал, вгоняя кислород в саднящие легкие.
Сквозь пелену бледным пятном проступало утреннее солнце – маленький желток в огромной глазунье дыма. Полдевятого, решил я, вряд ли девять. На улице невнятно орали; шум под окнами сливался в грозный, пугающий рокот прибоя, когда волны штурмуют скалистый берег и, так и не одолев громады утесов, с ворчанием идут на новый приступ. Слов было не разобрать, да я и не пытался. Крики и плач раздавались со всех сторон, гудели сирены.
Я слепо шарил по тумбочке, опрокидывая пузырьки, тюбики, флакончики и прочую косметику. Где же он?! Это – прямоугольное – что? Упаковка седуксена. "Если у вас бессонница, организм на взводе и не может расслабиться, а тревожные мысли не дают…" Ну как, злоупотребил? Выспался?! Наконец пальцы ткнулись в мобильник. Номер я помнил наизусть.
В том, что кто-то давным-давно набрал ненавистное "01" и сообщил о пожаре, я не сомневался. Подтверждая догадку, за окнами рявкнул мегафон: -…куация! – донеслось громовыми раскатами. – Выйти на балконы и…
Я звонил Сереге: редакция "КП" работает и по субботам.
Секунда, вторая… Долгие гудки в динамике. Томительное ожидание. -…балконы! – надрывался мегафон.
– Давай, бери трубку! – повторял я как заклинание. – И не говори, что ты сегодня выходной!
– Газета "Комсомольская правда", здравст…
– Марина, это Лаврецкий. Виноградова к телефону, срочно! Пожар на Ленинском!
На том конце провода громко ахнули. Новость брызнула мыльным пузырем, мгновенно разлетелась пересудами. Я слышал, как в редакции кричали: "Виноградова, Сергея!", и отвечали разражено: "Да нет его! Вышел куда-то. А кто спрашивает?" и "Пусть перезвонят!". Слышал взволнованное дыхание секретарши и готов был уже дать отбой, как где-то далеко крикнули: "Идет, идет!".
Ладонь взмокла, трубка норовила выскользнуть из пальцев.
– Слушаю, – произнес сытый и довольный Виноградов.
– Бери ручку и записывай! Ленинский, сто тридцать. Горит жилой дом, сильное задымление и огонь тоже сильный. Материал отдай Закирову, пусть вешает на сайт, а ты звони на пятый, чтоб ехали с камерой.