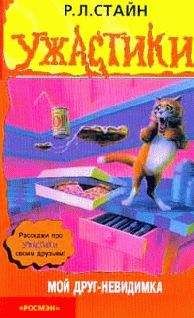Однако теперь, когда они столкнулись с реальными материалами этого трюка — а именно так чаще всего и бывает, — у Корнблюма возникли две серьезных проблемы.
— Он настоящий гигант, — напряженным шепотом произнес Корнблюм, качая головой. Миниатюрным ломиком он поддел гвозди по одну сторону гроба и поднял крышку на скрипучих петлях из оцинкованной жести. Затем встал, вглядываясь в презренную плиту безжизненной и безвредной глины. — И он совершенно голый.
— Да, он очень большой.
— Через окно нам его никогда не вытащить. Но даже если мы это сделаем, нам никогда его не одеть.
— А зачем нам его одевать? На нем есть эти тряпки, еврейские шарфы, — сказал Йозеф, указывая на талиты, которыми был обмотан Голем. Истрепанные и чем-то заляпанные, они все же не испускали никакого запаха разложения. Единственным запахом, поднимавшимся от смуглой плоти Голема, насколько смог определить Йозеф, был слабый душок какой-то едкой зелени, в котором он лишь позднее опознал сладковатое зловоние, что в самые жаркие летние деньки исходит от реки Влтавы. — Разве евреев не полагается хоронить обнаженными?
— Вот этом-то все и дело, — сказал Корнблюм, а затем объяснил, что, согласно недавнему указу, без прямого указания рейхспротектора фон Нойрата незаконным считался вывоз из страны даже мертвого еврея. — Мы должны применить кое-какие секреты нашего ремесла. — Старый фокусник слегка улыбнулся и указал на черные чемоданчики работников морга. — Нарумяним ему щеки и подкрасим губы. Увенчаем этот лысый купол убедительным париком. Кто-то наверняка заглянет в гроб, а когда он это сделает, нам нужно, чтобы он увидел там мертвого гойского гиганта. Никакого не еврея. — Он закрыл глаза, словно представляя себе то, что следовало бы увидеть властям, прикажи они открыть гроб. — И предпочтительно в очень хорошем костюме.
— Самые красивые костюмы, какие я когда-либо видел, — сказал Йозеф, — принадлежали как раз мертвому гиганту.
Корнблюм внимательно на него взглянул, чуя в словах бывшего ученика какую-то пока еще смутную для него подоплеку.
— Алоизу Гашеку. Он был далеко за два метра ростом.
— Алоизу Гашеку из цирка Желетны? — спросил Корнблюм. — По прозвищу Гора?
— Он носил костюмы, пошитые в Англии, в Севайл-роу. Колоссальные вещи.
— Да-да, я помню, — кивнул Корнблюм. — Я довольно часто видел его в кафе «Континенталь». Прекрасные костюмы, — согласился он.
— По-моему… — начал было Йозеф, но заколебался. Затем он все же продолжил: — Мне кажется, я знаю, где можно найти такой костюм.
В эту эпоху вовсе не так уж необычно для практикующего врача-эндокринолога было содержать целый гардероб чудес, набитый бельем размером с конские попоны, мужскими фетровыми шляпами не больше плошек для варенья, а также всевозможными шедеврами галантерейщиков и обувщиков. Все эти вещи, которые отец Йозефа многие годы приобретал или получал в подарок, долгое время хранились в специальном шкафу его больничного кабинета в похвальном, но заранее обреченном на провал намерении не дать им стать предметами нездорового любопытства со стороны его детей. Ни один визит к отцу на работу не мог считаться завершенным, если мальчики хотя бы не делали попытки убедить доктора Кавалера показать им ремень гиганта Вацлава Шроубека, толстый, свернутый в кольцо, точно страшная анаконда, или домашние туфли крошечной госпожи Петры Гавранчиковой, никак не больше цветка наперстянки. Однако после увольнения доктора из больницы (наряду со всеми остальными евреями данного учреждения) гардероб чудес прибыл домой, и его содержимое, упакованное в запломбированные ящики, было размещено в платяном шкафу домашнего кабинета доктора Кавалера.
Таким образом, прожив в Праге трое суток в качестве тени, в качестве таковой же Йозефу пришлось вернуться домой. Комендантский час давно уже вступил в действие, и городские улицы было совершенно пустынны, не считая нескольких длинных седанов с флажками на крыльях и непроницаемыми черными окнами, а также одного грузовика, кузов которого был полон мальчиков в серых шинелях с винтовками в руках. Йозеф шел медленно и осторожно, то и дело забегая в парадные, ныряя за стоящие у тротуара автомобили или скамьи на бульварах, как только слышал шум мотора или как только вилка ярких фар впивалась в фасады домов, в тенты над витринами магазинов, в булыжные мостовые. В кармане пальто Йозеф нес отмычки, которые, как посчитал Корнблюм, должны были пригодиться ему для работы, но когда юноша наконец добрался до черного хода в здание неподалеку от Градчан, выяснилось, что, как это частенько бывало раньше, дверь оставлена приоткрытой при помощи консервной банки — скорее всего, кем-то из жильцов, отважившимся на несанкционированный выход, или просто чьим-то блудным супругом.
Ни в заднем вестибюле, ни на лестнице Йозеф никого не встретил. Ничей ребенок не хныкал, требуя бутылочку с молоком, ниоткуда не доносилось чье-то ночное радио, ни один пожилой курильщик не вышел на еженощное занятие по выкашливанию своих легких. Хотя лампы под потолком и фонари на стенах горели, коллективная дрема здания казалась еще более глубокой, чем на Николасгассе, 26. Йозефа вся эта тишина и недвижность немного нервировала. Он чувствовал все то же покалывание вдоль позвоночника, все те же мурашки по коже, что и во время проникновения в пустую комнату Голема.
Прокрадываясь по коридору, Йозеф заметил, что кто-то выбросил большую охапку одежды на коврик у двери в квартиру его семьи. В какой-то предсознательный миг сердце его подскочило при мысли о том, что сюда невесть по какой чудесной причине мог быть выброшен один из интересующих его костюмов. Однако затем Йозеф заметил, что у двери лежит не просто груда одежды, что эту груду населяет чье-то тело. Там мог быть кто-то пьяный, бесчувственный или скончавшийся прямо здесь, в коридоре. Девушка, подумал Йозеф. Одна из пациенток его матери. Это было редко, но не так уж неслыханно. Порой случалось, что объект психоанализа женского пола, исхлестанный волнами перенесения и десублимации, искал себе защиты у порога доктора Кавалер — или, напротив, так воспламенялся личной ненавистью контрперенесения, что, в порядке зловредной шалости, оставлял себя здесь в отчаянном состоянии, как люди порой оставляют у чужих порогов подожженные бумажные мешки с собачьим дерьмом.
Однако эта одежда принадлежала самому Йозефу, а тело внутри нее — Томасу. Мальчик лежал на боку, подтянув колени к груди и положив голову на руку, протянутую к двери. Пальцы его были растопырены, как будто он заснул в тот самый момент, когда ухватился за дверную ручку, после чего осел на пол. На нем были угольно-черные вельветовые брюки, лоснящиеся на коленях, а также просторный вязаный свитер с большой дырой под мышкой и перманентным призраком пятна от велосипедной смазки в форме Чехословакии на груди. Насколько знал Йозеф, его брат любил напяливать на себя этот свитер, когда страдал от нездоровья или одиночества. Манжеты пижамных штанишек Томаса торчали из-под черного вельвета позаимствованных брюк. Правая его щека была расплющена о вытянутую руку, а через вечно простуженный нос шумно и регулярно выходил храп. Йозеф улыбнулся и уже стал было опускаться на корточки, чтобы разбудить Томаса, немного его подразнить и помочь вернуться в постель. Но тут вдруг вспомнил, что не может себе этого позволить — не может допустить, чтобы о его присутствии кто-то узнал. Йозеф не мог попросить Томаса солгать родителям. На самом деле он даже не мог всерьез ему довериться. Тогда Йозеф подался назад, пытаясь понять, что случилось и как ему лучше поступить. Как Томас оказался заперт снаружи? Значит, это он оставил дверь черного хода внизу приоткрытой? Что могло толкнуть его на риск так поздно выйти на улицу? Ведь все знали про инцидент, случившийся всего несколько недель тому назад в Виноградах, когда одна девочка, едва ли старше Томаса, выскользнула из дома, чтобы найти своего потерявшегося песика, и была застрелена в мрачном проулке за нарушение комендантского часа. По поводу этого инцидента последовали официальные сожаления рейхспротектора фон Нойрата, но никто из официальных лиц даже не намекнул, что подобное больше не повторится. Если Йозефу удастся как-нибудь разбудить брата и остаться незамеченным — например, бросить ему в голову пятигеллеровую монетку, — позвонит ли Томас в квартиру и попросит ли его впустить? Или ему станет так стыдно, что он решит провести остаток ночи в холодном и темном коридоре, прямо на полу? И как Йозефу добраться до одежды гиганта Алоиза Гашека, когда его брат спит на пороге квартиры? Если же Томас проснется и позвонит, все домашние тоже проснутся и поднимут хай по поводу своенравия мальчика. Тогда никакой одежды Йозефу уж точно не видать.
Эти раздумья резко прервались, когда Йозеф наступил на что-то хрусткое, одновременно и мягкое и плотное. Сердце его захолонуло, он в отвращении отскочил назад, но увидел вовсе не раздавленную мышку, а футляр с отмычками, некогда подаренный ему Бернардом Корнблюмом. Ресницы Томаса запорхали, он громко шмыгнул носом, и Йозеф стал с трепетом наблюдать за тем, не погрузится ли его младший брат обратно в сон. Однако Томас резко сел. Вытерев тыльной стороной ладони слюну с губ, он поморгал и резко выдохнул.