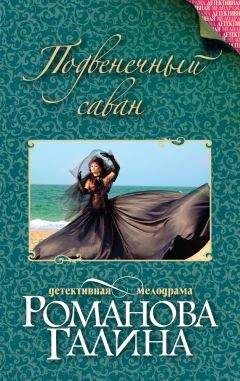— Да на хера мне земля… Девяносто процентов людей — дебилы!
— Где-то я это уже слышал…
— От умных людей, не иначе.
— Игорь, ты не партизаном, а, например, композитором будь. Или каскадером. Или… Восторгайся ты дикостью. Только сразу поставь нас рядом с Африкой! Там ведь тоже природа и сердечность! Пляши, как дикарь: разуй уши и подвывай вождю… Бывали вожди вашего знаменитее! Вели полки, вдохновляли миллионы, своими именами пометили полземли. Позорно — быть вождем-то. Поучаешь, добиваешься, чертишь маршруты, загадываешь вперед, а очнись ты в этом самом “впереди” через сто лет после смерти — со стыда обратно провалишься. Кто ты такой? Время поменялось, твои наказы мертвы, и всяк, кому не лень, балуется твоим именем. И ничего не исправишь. А пока жив вождишка — он волк! Он тебя сожрет и не подавится! Ему язык прищемить надо.
— Чё, легавым сдать? — Светлые глаза Игоря вмиг потемнели. — Ты мне чё — заложить отца второго, бля, предложил?
Пиво заполнило Андрея хладнокровием:
— В Говенье, в селенье наши папаши родились…
— У?
— И… И учительницу там разорвали. Она ученье несла, вразумляла деток. Вытаскивала их за ушко из сырых хибар да в класс солнечный, к сухим страницам Букваря. Волки позорные ей отомстили. Знаешь: волчицы людских выблядков воспитывают, молоком кормят. Потом эти люди воют на луну и бегают на четвереньках. Волки — они тоже агитаторы! Темень любят, выть любят, вонь им лестна разодранных туш. Учительница залезла на стог сена и спички жгла, огнем махалась. Не знала она верного средства. Может, и знала. Но это средство хорошо против одного серого. С целой стаей разве сладишь? Стая с ног собьет, чуют, где жизнь — в сонной артерии, и туда — первый скачок, и об артерию — зубами щелк. Но если волк в одиночку встретился, его можно победить. Только пасть разует — изловчись и за язык… Схвати. Сожми. И дерни! И его парализует. Не выть ему больше, хотя бы самая чистая, тряпочкой протертая в небе луна и вокруг на сто километров рыдает полнолуние, окаменеет он на полчаса, как экспонат, обойди, потрепли по холке, все равно — молчок. “Серый, ты лох!” — скажи чего-нибудь обидное и поспешай, пускай луна светит! Игорюша, Игорек! Тебе жить… Осторожнее, ну?
Чокнулись остатками пива.
На работе, блуждая Интернетом, Андрей повелся на очередную балаганную вывеску и прочел историю Перона и Эвиты.
Историческая причастность, жара, белые костюмы, подкравшийся метастаз, пара, принимающая овации на обращенном к площади балконе, люстра в ржаном пламени и стекляшки льда в муторном виски — дочитав жизнеописание, рассчитанное на пенсионерок, чуть-чуть прослезился, тайно от сидящих с ним в отделе.
Помешанный на смерти, он искал любви. Приспело, скоро двадцать три, душевная течка. Потому ли, что Нина, лирично навязывая никудышность, внушила: “Главное — большое чувство, у меня с твоим отцом сильное было!” Таня вспоминалась из движения молодежи. Зря задевал куда-то ее телефон…
В Интернете он обратился к “Знакомствам”. Простодушные непропеченные рожицы выпускниц интерната. Русская рулетка, част зловонный дымок холостого: ни кожи, ни рожи, ни ложа… Но бывает попадание. И лучше уж через Интернет, чем задирать прохожих краль на бульваре.
Припухлая булочка семнадцати лет, родом из подмосковного Александрова, живет в общежитии, студентка-гуманитарка, отсюда красная челка.
31 декабря забили стрелу у Красной площади, прошвырнулись по Никольской, открыли на удивление пустой бар в подворотне и выдули по пиву.
Гуманитарочка даже подвезла рукопись, “чтобы лучше меня узнал”. Андрей перелистнул, разглядывая отсутствие абзацев: поток, шум, ласки душиком, лежала в ванной, млела — смысл проступал едва сквозь водяной туман слов. Вика придумала себе фамилию-псевдоним Лимон, хотя настоящая была Бычкова.
— Интересно, интересно… — как говорил обычно от скуки. — Давай в гости поедем. К шишке газетной. За городом живет. Праздновать звал.
По дороге с вокзала до полустанка рассказывала: папа, бывший дипломат, сидел в посольстве где-то в Замбии, мама — жена посольская, а сама Вика любит мармелад, чтобы был тягучим, жвачным, и грызть не перегрызть, зубы окуная до зуда.
— С новым счастьем! — каркнул машинист.
В вагоне клубился мат.
— А у меня сестрица на Новый год копыта откинула, — соврал зачем-то. — Ее ледышкой убило.
— Какой ужас!
— А Земля однажды остановится и лопнет.
— Красиво… — Обнаружила зубы, рослые, с расщелинами.
— Мы сдохнем!
Скривилась:
— Человечка надо родного найти. Детей народить. — У нее был голос горемыки, голос в нос и в лоб. — Солнышко светит. И мне хорошо!
Обнял за плечи, притянул, чмокнул в припудренные пупырышки лба.
— Долго еще? Успеем до Новогодья?
— А я всегда отмечаю его по-особому, — отозвался запористо, из мрака кишок, тоном душителя.
И был милый нероскошный стол под белой скатертью.
— Друзья мои… Посол Америки! Я всех троих президентов Америки посетил! У меня команда в сборе. Леня — гениальный бард. Дуглас — классный парень из Штатов, занят правами женщин. Маша — художница, галерея в центре Москвы. Бурсук — мой помощник, беженец из Грозного. Андрей — наш новенький. Ты скажи: “Я маленькая, пришла с маленьким”. Нас решила тут удивить? Ты говоришь: “Я дочь посла!” Окстись! Когда так говорят…
— Это я сказал, — сказал Худяков.
Грянул гимн. Куркин встал:
— Ребят, этот гимн плохой, но это наш гимн.
Вскочил понурый американец, разжавшись пружиной.
— Да ну его в качель! — буркнул бард, более разборчивый во временах, и плюхнул в тарелку холодца.
— Леньк… — тупо-умильно взирал Куркин.
— Не дерзи Петьке. Нам что, сидя пить? — Розовомордая баба под жестким желтым гнездом поднялась, и ее шатнуло. — Ой, пьяная! Лень, ну держи меня…
Все стояли. Гимн. И опрокидывание. Положено, заглатывая, загадать желание, но Андрея отвлекла развратная мыслишка: а кто из них не доживет до следующего года?
Бард привычно, с видом фаталиста стал нащипывать струны:
***
В этом скорбном краю
Унижают и режут,
Я печально пою,
Но собаки все брешут…
Что же, коли сгрызут
И снегами мой труп закида-ает,
Примагничен я тут,
Не сбегаю в манящие да-али?
— Почему у тебя волосы красные? Мода на коммунизм? — снисходительно выспрашивала художница.
— Дочь посла, — нюнил Куркин, тиская за плечо питомца. — А он наш парень. Остроперый! Написал про “И души, и бестии”, это же фашисты! На “Норд-Осте” штурм принимал, к наркоманам ездил, разведал, как цыган очерняют, потом про… Про чаво еще?
Вика сникла, заслоняясь жеванием.
— Радио “Звонница”, — напомнил Андрей.
— Да! И про тех фашистов!
— “Звонница”? — насторожился бард. — Пакость редкая. Погоди, как твоя фамилия? Я тебя там не слышал?
— Меня? И там? — Андрей вмиг изменил глуховатый голос на жеманно-подмигивающий: — Меня-то?
— Ты что, Леньчик. — Куркин взялся за бокал, нашел пустым, отодвинул, наградив смачными отпечатками. — Ты в разуме или неразумии? Ты с какой головы Новый год встречаешь? Бурсук, налей!
— И про “Души”? И про “Бестии”? — Бард упорствовал. — Поймал я недавно одну передачку. Как Кремль лучшую, так сказать, молодежь собирает и как нам всем погромы нужны… Не ваше, молодой человек?
Андрей на нервной почве набил рот горячим куском мяса и напряженно истреблял. Остудился колючим глотком шампанского. Известил благородным, обветренным, чуть раскосым фальцетом:
— Если бы не разница в возрасте, я бы вызвал вас на дуэль.
Ответом были аритмичные хлопки художницы. За окном хлопотал соседский фейерверк.
Пьяные, целовались, стекая с крыльца под шипение и мявк тянущего ошейник голодного кота. Бард и художница жили в поселке, американец гостил у барда…
Андрей выскочил на крыльцо и интимно:
— Бурсук, презик не завалялся?
— Быль, да вышель весь…
— Призрак? — переспросил со двора янки, внешне опущенный, будто зависший над заснеженной землей.
Светало. Чечен улегся в дальние покои. Андрей и Вика в гостиной. Петр Васильич через стену, в кабинет.
И начались виражи, которые были бы смягчены покровами ночи, ночь внесла бы недомолвки…
Светлело. Хотелось спать.
И только долг — овладеть! Вика заорала. Как роженица. Она не была девственна. Орудие не совмещалось с маслянистым, но узеньким проемом. Навалившись, Андрей тоже крикнул. С закрытыми глазами, вместе с поцелуем… Крики… Слишком крупное орудие. Скольжение. Невозможность, жажда проникнуть, чужая боль. Напор, выстрел. Замарался девочкин живот, семя всхлипнуло узко, глубоко в ее пупке…