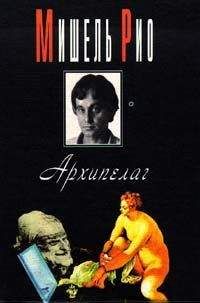— Да, мадам.
Она посмотрела на меня растроганно и в то же время немного насмешливо.
— Если бы я была на несколько лет моложе, я, наверно, бы в вас влюбилась.
— Если бы вы были на несколько лет моложе, мадам, я навряд ли бы в вас влюбился.
Она улыбнулась, встала и, подойдя ко мне, мимолетно коснулась губами моих губ. Потом вышла из столовой, я слышал, как она открыла дверь в библиотеку. Вечером, предупредив, что не буду ужинать, я долго лежал на постели одетый, раздираемый противоречивыми мыслями. Парк притягивал меня с неодолимой силой, которую я тщетно пытался побороть. В окно я видел, как ночная тьма поглощала на востоке последние проблески сумерек, по мере того как всходила и все ярче наливалась светом полная луна. Наконец я не выдержал, тихо спустился по лестнице, вышел из дома и принялся бродить по опасной зоне парка. Я поступал так упрямо и сознательно, чтобы гость, пожаловавший в эти края, откуда бы он ни явился, не мог бы со мной разминуться, но все же я старался не попадаться на глаза обитательницам дома. Проведя полдня в мучительных размышлениях, я понял, что не смогу просто принять все как есть, однако, памятуя слова Александры Гамильтон, которые хоть и мучили меня, но при этом восхищали и усугубляли мою страсть, и желая поэтому избежать скандала, я тем не менее хотел одним своим присутствием, с виду непреднамеренным и невинным, отпугнуть Уайльда. Но библиотекарь не пришел, а может, заметив меня издали, ретировался. С облегченной душой я уселся у подножия дерева, на которое накануне влезал Уайльд. И вдруг мне в голову пришла порочная мысль, рожденная вожделением и ревностью. Я даже не попытался ее отогнать. Я встал, принес лежавшую у ограды лестницу, прислонил ее к стволу и взобрался на ту самую ветку, с которой подглядывал Уайльд. Через пять окон квартиру было видно почти целиком: слева гостиная, в центре спальня, справа ванная комната. Александра Гамильтон, обнаженная, стояла в ванне. Стояла ко мне лицом. Мадемуазель Элиот, засучив рукава, тщательно намыливала себе руки, потом медленно и нежно проводила ими по телу купальщицы — смесь омовения и ласки. Домоправительница держалась с обычной своей бесстрастностью, но движения ее были как-то особенно выверены и старательны. Левая ладонь мадемуазель Элиот, которая перемещалась по спине Александры Гамильтон, была мне не видна. Верхняя же часть руки, которую я видел, замерла на уровне бедер молодой женщины и вдруг сделала быстрое движение, от которого невозмутимое лицо той передернулось. Правая рука надолго задержалась на груди, скользнула к лобку и там замерла. Выражение лица Александры Гамильтон почти не изменилось. Только левой рукой она уперлась в стену. И вдруг рот ее приоткрылся, казалось, она испустила протяжный крик и схватилась за руку домоправительницы. Потом она погрузилась в воду и стала смывать с себя мыло. Потом вышла из ванны. Вытерлась. Перешла в спальню, легла в постель и зажгла у изголовья ночник, и пока мадемуазель Элиот тушила в комнатах свет, взяла с ночного столика книгу и стала читать, опершись о широкое изголовье. При свете неяркой лампы было хорошо видно ее лицо в рамке густых рассыпавшихся волос, ее прекрасные плечи и верхняя часть груди, до половины скрытой книгой. Домоправительница вышла через дверь гостиной. В продолжение этой сцены обе женщины не обмолвились ни словом.
Лампа погасла. Как во сне я спустился с лестницы и носом к носу столкнулся с Леонардом Уайльдом. Я почти не удивился, не испугался и не смутился. Потому ли, что даже самую грубую развязку я предпочитал двусмысленности status quo и гнетущему ожиданию, потому ли, что, весь переполненный только что увиденным, я не ощущал ничего, кроме своей порочной, влюбленной тяги к этой женщине, но я решил отнестись к происшествию спокойно, перестать робеть, чувствуя себя виноватым, и даже, если понадобится, отстаивать свое право на совершенный поступок. Я впервые посмотрел прямо в лицо Уайльду, не чувствуя ни малейшего смущения.
— Почему, черт возьми, молодой человек, вы не спите с собственной матерью, чем ходить вокруг да около? — преспокойно спросил Уайльд. — В ваших глазах мадам Гамильтон отведена всего лишь роль метафоры. А в страсти, будь то литература или жизнь, всякие стилистические выверты неуместны и свидетельствуют либо о глупости, вызванной непониманием искусства, либо, чаще всего, об эстетическом или моральном страхе перед неприкрашенной правдой. Предоставьте ущербность риторики мне, ибо я ущербная особь человеческого рода. Судя по вашему характеру, не думаю, что вы способны удовлетвориться изысканным наслаждением глаз, а при вашей внешности у вас, я полагаю, нет необходимости искать убежища в наблюдении, которое в применении к некоторым областям зовется эрудицией, а к некоторым другим — вуайеризмом. Вам больше подходит действовать. К тому же вы получили, публично или в частном порядке, доказательства того, что мадам Гамильтон питает полнейшее безразличие к нашему полу, если вы позволите мне дерзко причислить нас с вами к общей условной категории.
— Это безразличие, — произнес я беззвучно, ненавидя цинизм этого человека, хотя мне не удавалось возненавидеть его самого, — по-моему, умеряется известной терпимостью, по крайней мере по отношению к вам. Доказательство тому — ваш занятный сговор: мадам Гамильтон охотно потакает вашим прихотям.
Он пошатнулся, словно его наотмашь ударили по лицу.
— Наш… сговор?
— Я узнал об этом в силу неизбежности, которая вытекает из случайности. Успокойтесь, мадам Гамильтон не поверяла мне никаких тайн. После того, что произошло, я не сообщу вам ничего нового, если скажу, что вчера застиг вас в сходной ситуации. По причинам, которые вы наверняка проанализируете с большей проницательностью, нежели я сам, в разговоре с мадам Гамильтон я приписал себе ваши заслуги, желая, чтобы она задергивала занавески. Она ни на секунду мне не поверила и вежливо попросила не соваться не в свое дело. Сегодня вечером занавески остались открытыми. Какой, по-вашему, вывод я должен сделать?
Глубоко втянув в себя свежий ночной воздух, он издал не то хрип, не то стон, в котором было что-то звериное. Потом как будто взял себя в руки.
— В самом деле, все ясно как дважды два. С той только разницей, что я не подозревал об этом сговоре. Готов признать, что это свидетельствует об известной доле рассеянности и даже глупости.
И тут я понял, что он потрясен не тем, что я знаю, а тем, что сам он не знал, и мне стало ясно, какой чудовищный промах я совершил. Я неловко попытался его смягчить.
— Неужели в ваших глазах это такая большая разница? Учитывая то, что вы ' сами сказали о склонностях мадам Гамильтон, ее поведение скорее вам на руку.
— Вы очень любезны, молодой человек. Но если бы вам пришлось испытать на себе неограниченную тиранию уродства, вы бы знали, что самая крошечная; свобода — это уже бесценный дар. В преступлении свобода есть, в подачках -нет. Моя внешность неотвратимо отбрасывает меня в ряды отверженных, но по мне более почетно быть вором, чем нищим.
Воцарилось довольно продолжительное молчание.
— Сами того не желая, вы оказали мне услугу, — наконец заговорил он. — Бывают сомнения, которые в конце концов оборачиваются трусостью. Можете оказать мне еще одну услугу? Вы, кажется, недурной мореход. Я хотел бы, чтобы вы доставили меня на Гернси на одной из яхт, принадлежащих колледжу.
— Прямо сейчас?
— Да, прямо сейчас.
— Что вы задумали?
— Вы согласны или нет?
— Хорошо, мсье.
Мы вышли на дорогу к Розелю и направились к этой деревушке извилистой тропинкой, спускавшейся по склону к низине. Шли мы молча. Я замедлял шаг, применяясь к пыхтевшему рядом Уайльду. Время от времени я украдкой на него косился. На его чудовищной физиономии не выражалось никаких чувств, только легкое напряжение от непривычного усилия. Мне хотелось знать, что творится за этим фасадом. Добравшись до деревни, мы пошли по узкой и короткой улочке, которая вела к порту и заканчивалась уходившими в воду мощеными сходнями. Закругленная дамба, которую окаймляли прилепившиеся к холму домишки, по всей своей длине была забрана парапетом, кое-где прерывавшимся проходом к каменным ступеням или приставным лестницам, и на востоке заканчивалась молом, выступавшим в море под прямым углом и загроможденным разноцветными кабинками. Освещенная ровным светом высоких фонарей — островок полусиянья, вписанный в бескрайний полумрак ясного неба, — она окружала небольшой водоем, где натягивали швартовы стоявшие бок о бок рыбачьи лодки, парусники и катера, слегка покачиваемые тихой волной прилива, почти уже достигшего своей полноты. Узкая горловина, зажатая между оконечностью мола и нагромождением скал, вела в открытое море. А за ней до линии горизонта на востоке тянулось черное безбрежье воды.
Уайльд остановился.
— Я всегда панически боялся моря, — сказал он. — А ночью оно особенно зловеще. Но все равно. Пошли.