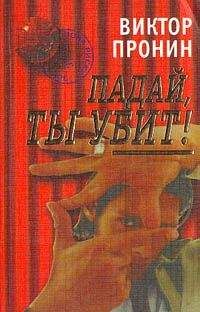Ознакомительная версия.
— Удачи тебе, Митя, — сказал Монастырский. И залпом, до дна выпил свой стакан. Семикопеечный граненый стакан — мы пьем из таких стаканов газированную воду в автоматах.
— Ты почему не закусываешь, Костя? — спросила Селена, толкнув Игорешу локотком. Дескать, слушай.
— Жду результата, — без улыбки ответил Монастырский. Он был очень четкий человек, он понимал только суть вопроса, остальное отбрасывал как несущественное. При желании Костя мог бы услышать в слезах Селены внимание к себе, насмешку, намек на то, что за этим столом и закусывать-то особенно нечем. Но он ответил только на поставленный вопрос. Он ждал результата. Вот так. И дождался. Через пятнадцать минут Монастырский заливался счастливым смехом, и ничто не могло его остановить. Смеялся, и все. Это и был результат. В таких случаях он отсмеивался на год вперед, а потом месяцами ходил суровый и вдумчивый.
— Митька! — громко сказал Илья Ошеверов, тот самый, который вскоре уедет в Салехард, наймется фотографом, вернется без копейки, будет подрабатывать аквариумными делами, потом бросит все и станет водителем на междугородных перевозках, в каковом качестве приедет в Одинцово. Там мы с ним и встретимся. — Митька! — повторил Илья. — Не слушай никого. Ванька несет чушь. И Игореша несет чушь. Они оба несут чушь. Надо ломать карту. К утру повезет. Если нет козырей, ходи бубну. Понял? Ходи бубну. Карта — не лошадь. За тебя!
Молча выпил и принялся охотно закусывать Васька-стукач, известный своими кулинарными способностями и непотребной кличкой, о которой знали все, кроме, пожалуй, его самого. Похоже, не знали об этой кличке и в далекой таинственной конторе, на которую Васька работал нештатно, а может, даже и бесплатно, из одной только любви к порядку. Васька-стукач славился потрясающей своей памятью. После самой жестокой пьянки он мог точно сказать, какие были тосты, в каком порядке, кто их произносил, кто что добавил, в какой руке при этом Шихин держал вилку, о чем говорила Валя но телефону в соседней комнате и так далее. Качество это у него было чисто профессиональное, удивляться тут нечему. Упомянули мы о Ваське-стукаче единственно из добросовестности, поскольку линия его судьбы тоже взвилась в этой комнате, унеслась в бескрайнее пространство и, круто развернувшись вокруг черной дыры, устремилась в Одинцово.
Тут же вертелись и некий Федулов со своей очередной женой — укороченной бабенкой с выпирающим животиком. Животик у нее выпирал не потому, что она собиралась продлить род человеческий, просто Федулова любила поесть, даже если на столе не было ничего, кроме картошки и колбасы. В самые неожиданные моменты она сипловато взвизгивала, будто кто-то забирался к ней за пазуху и никак не мог там успокоиться. Федулов улыбался, кланялся, взмахивал пуками, все порываясь что-то сказать, но так и не сказал, потому что каждый раз, когда он открывал рот, вскрикивала его жена, выныривая то с одной стороны стола, то с другой.
Федуловы тоже прикатят в живописный московский пригород, хотя, честно говоря, никто их туда не звал, их вообще никто никуда не звал, но они везде бывали и везде чувствовали себя превосходно.
Чтобы не увлекаться перечислением шихинских гостей, на этом остановимся, разве что послушаем их самих, недолго, совсем недолго.
— Как я тебя люблю, собаку! — прочувствованно повторил Ванька Адуев.
— А все-таки нам будет тебя недоставать, — покатываясь от хохота, просипел Монастырский.
— Чует мое сердце, долго я здесь не задержусь, — сказал Ошеверов.
— Мы всегда будем помнить о тебе, Митя, — это Игореша Ююкин. Трогательно, с чувством и по делу. Правда, его слова прозвучали несколько заупокойно, но по пьянке и не то скажешь.
— Я обязательно к тебе приеду, — сказал Васька-стукач.
— Нисколько в этом не сомневаюсь, — ответил Шихин. Ему единственному ответил. Остальным он лишь кивал, подливал и поднимал свой стакан с красным болгарским вином.
Из редакции никто не пришел, хотя знали, что Шихин уезжает, знали, что именно в этот день будет застолье. Даже болгарским красным не соблазнились, хотя, казалось бы, такие уж любители, такие ценители...
Не пришли.
Шихин чутко прислушивался к грохоту лифта, к шагам на лестничной площадке, к голосам, порывался даже встать, открыть дверь, выглянуть — вдруг к нему. Но, видно, не пустил он корней в газете, хорошо ли, плохо ли, не пустил. И пока молча улыбался за шумным столом, понял, что веселость, с которой посылали его за вином, и им не далась легко. Это тяжелая работа. Можно какое-то время морочить себе голову, называя предательство как-то иначе, находя в нем забавные подробности, можно его оправдывать простоватостью, подневольностью и даже заботой о государстве, но недолго. Очень недолго, ребята.
Самые убедительные оправдания в таком деле очень быстро теряют свою силу.
Отъезд.
В звучании этого слова есть что-то от звука ножа, отсекающего живое, вам не кажется? Если отъезд, если всерьез и надолго — отсечение. Легко и безболезненно, как корки от зажившей раны, отпадают связи омертвевшие, но годами болят и сочатся живые, полные любви и ненависти. Что говорить, все мы прошли через это и знаем, и помним — тяжело.
Но почти всегда необходимо.
Останься — и многое потеряет смысл, обесценится, дохнет пустотой и тщетностью. Милые твои улочки, усеянные желтой листвой, пронизанные летним солнцем павильончики с мороженым и сухим вином, заснеженный Ботанический сад или залитая дождем Набережная — все погаснет. А настоящее, зовущее уже переместилось туда, за горизонт, куда ты не поехал, чего-то испугавшись, дрогнув. Нет, надо ехать. Надо отсекать. Может быть, для этого требуется мужество или какая-то осатанелость, но, наверное, полезнее всего ограниченность. Она дает твердость под ногами, уберегает от колебаний, от капризов и влюбленностей, от пустых надежд, уберегает от всей многозначности жизни. Когда мы готовы взмахнуть крылами, чтобы унестись в небо за еле видным журавлем, когда рвемся вслед за поездом, из которого, как нам показалось, махнули знакомой косынкой, когда душа содрогнется от неожиданной бесовской любви, единственно, что спасает нас — ограниченность. Навалится дурнотой, глухотой, пьянкой, болезнью, страхом... И спасет.
И спасает.
И дрогнут вагоны, дрогнут губы, заголосят проводники, желтыми своими палками выталкивая из вагонов провожающих. И побегут они по перрону, сшибая друг друга, потому что если не побегут, то мы на них обидимся, упрекнем мысленно в холодности и равнодушии. Да-да, надо хоть немного пробежать за вагоном. Махнуть рукой. Крикнуть что-то бессмысленное, много раз говоренное, повторенное и записанное — номер телефона, название станции, напоминание о курице в пакете, о скором дожде. Так принято. Пусть знают отъезжающие, как тяжело с ними расставаться, как любят их и как будут без них страдать. Им это нравится. Всегда приятно, когда мы узнаем, что кто-то безнадежно страдает из-за нас, ждет безутешно, пишет письма и рвет их, заказывает телефонные разговоры и тут же заказы отменяет. Сердце замирает в сладостной грусти, и мы готовы простить этому человеку все... Единственное, чего мы простить ему не сможем, это его страдания по кому-то другому. Нам почему-то всегда хотелось бы верить, что только мы достойны чистых и глубоких чувств.
Боль разлуки.
Мы стремимся ослабить ее пренебрежением, тоже надежным болеутоляющим средством. Оно хорошо помогает, когда от нас уходят, когда нас гонят, когда в нас не нуждаются. А мы лишь хохотнем мимоходом, оглянемся улыбчиво и пойдем своей дорогой. Куда глаза глядят. Дескать, не так все это важно, и если уж на то пошло, то не столь мы с вами значительны в этой жизни, не столь изящно воспитаны, чтобы придавать значение собственным страданиям. Чепуха все это, истинно чепуха.
И, отсмеявшись, покуражившись над заветным, отхлопав но плечам первых попавшихся приятелей, которых в другое время и не узнал бы, бредешь домой, постанывая сквозь зубы, припадая к заборам, столбам, витринам, отсиживаясь в темных углах автобусных остановок, чтобы перевести дух, собраться с силами и идти дальше с этакой непринужденностью в походке. Пусть все знают, как мы неуязвимы, как веселы и беззаботны.
А за окном вагона уже мелькает железный частокол клепаных мостовых ферм, они проносятся мимо и перечеркивают город, в котором прошло так много твоего времени, в котором произошло столько всего, сколько с тобой уже больше никогда не случится. Тяжелые, ржавые фермы проносятся мимо и перечеркивают улицы, разбитые фонари, громыхающие телефонные будки, Постамент из красного гранита, на котором когда-то стояла Екатерина, основавшая город; а теперь не менее величаво возвышается Михаил Васильевич Ломоносов, не имеющий никакого отношения ни к городу, ни к Постаменту. И если он к чему-то имеет отношение, то лишь к самой Екатерине. Она заложила город, он прославил ее время — пусть потомки разбираются, кому стоять на высоком холме, кому смотреть в даль будущих веков в позе церемонной и великодержавной.
Ознакомительная версия.