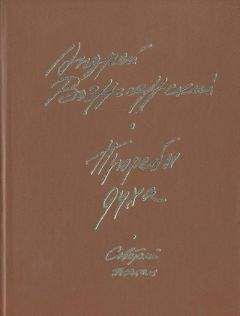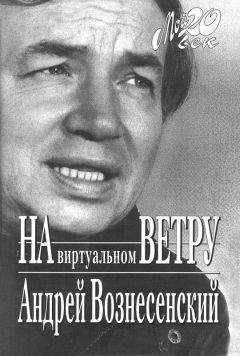Три скрипки
Скрипка в шейку вундеркинда
вгрызлась, будто вурдалак.
Детство высосано. Видно,
жизнь, дитя, не удалась!
Век твой будет регулярным.
Вот тебя на грустный суд,
словно скрипочку в футляре,
в «Скорой помощи» везут.
А навстречу вам, гуляя,
вслушиваясь в тайный плод,
тоже скрипочкой в футляре
будущая мать идет.
Выписка из книги «Чародейство, волшебство и все русские народные заговоры»
«Чтоб женщине стать умной, надо печень
съесть соловья, в Купалу заколов»…
Вот почему так много умных женщин.
Вот почему так мало соловьев.
Ценней Самофракийской Ники
две лесные земляники!
Мы, вампиры,
предпочитаем коммунальные квартиры.
Ваши стоматологи сидят в ампирах —
беда вампирам…
Я — вампир. Но не в смысле переливания крови.
Не боюсь креста, чеснока и пр.
Я подзаряжаюсь вашею любовью.
Вампир.
У меня есть тайное место за Онегою,
или Кожеозерский монастырь.
Князь там перед битвой подзаряжался энергией.
Вампир?
Вот почему женщины, мной покинутые,
чувствуют вакуум и упадок сил.
Сволочь посвежевшая, иду по Киевской.
Я — вампир.
Но это называется победой пирровой.
Когда выходите на стадион —
он вас коллективным вампиром
высасывает, как лимон.
И люди заряжаются вашей жизнью,
живут ею месяцы, становятся добрей.
Разъезжаются с нею в Орлы и Жиздры
и вам присылают своих дочерей.
Господи, чем мы тебя обидели?
Как сладко и страшно устроен мир.
Дети-вампиры сосут родителей.
И всех высасывает земля-вампир.
Ты вошла в гостиницу, зубки пилкой,
был в утренних объятьях застенчивый укор —
вампирка! —
последнее, что помню — в горло укол.
Теперь пролетаю, как демон мщенья.
Где ты? Но поздно — тебя я полюбил.
В квартирах отключается освещенье.
И женщины чувствуют прилив сил.
Мадам де Пробир
— Как наши мужчины, мадам Перекусихина,
подруга наша верная, мадам де Пробир?
— Купец у Малой Грязной (ныне Куусинена)
с разбега дверь пробил —
кулак занозил.
— Все хахоньки да хихоньки, мадам Перекусихина?
— Их, как сельдей, напихано, моя императрица:
граф Иловайский с сыном шаг пробуют гусиный,
есть жеребенок ихний, есть генерал под тридцать,
боюсь, что не годится, моя императрица.
— А что вы покраснели, мадам Перекусихина?
— Чай, дула печь топиться, моя императрица.
— А кто там в вашей спальне, мадам Перекусихина?
— Наверно, мышь резвится, моя императрица.
— Давно ль у мыши сабля, мадам Перекусихина?
— Я памятью ослабла, моя императрица, кузен мой, Лешка Зуев, молоденький да
тиханький,
пришел к сестре проститься, моя императрица…
— На что ты покусилась, мадам Перекусихина?!
Пускай подаст мне в спальню глясе-пломбир.
Императрица станет тебе мадам Пробир.
Бедная, бедная мадам Перекусихина!
Мне Ленинград — двоюродный.
Но чувствую тоску,
когда линогравюрой
решетка на снегу.
Зачем в эпоху скучную
вонзает в сердце звон
курчавый, точно Кушнер,
чугунный купидон?
Рябина в Париже
Скоро сорок шестая година,
как вы ездили с речью в Париж.
Пастернаковская рябина,
над всемирной могилой горишь.
Поезд шел по Варшавам, Берлинам.
Обернулась Марина назад.
«Россия моя, лучина…»
А могла бы рябиной назвать.
Ваша речь не спасла от лавины.
Впрочем, это еще вопрос.
Примороженную рябину
я поэтам по ягодке вез.
И когда по своим лабиринтам
разбредемся в разрозненный быт,
переделкинская рябина
нас, как бусы, соединит.
Душа стремится к консерватизму —
вернемся к Мельникову Константину,
двое любовников кривоарбатских
двойною башенкой слились в объятьях.
Плащом покрытые ромбовидным,
не реагируя на брань обидную,
застыньте, лунные, останьтесь, двое,
особняком от людского воя.
Как он любил вас, Анна Гавриловна!
И только летчики замечали,
что стены круглые говорили,
сливаясь кольцами обручальными.
Не архитекторы прием скопируют,
а эта парочка современников —
пришли по пушкинской тропе ампирной
и обнимаются à lа Мельников.
Внутри рефрижератора не пошалишь.
Наши лягушки поехали в Париж.
Будет обжираловка на Пале Рояль.
Водитель, врежь, пожалуйста, Эллу Фицджеральд.
Превратив в компьютеры, их вернет Париж.
У наших лягушек мировой престиж.
Мимо — две Германии.
В хрустальной мерзлоте
снятся им комарики
без ДДТ.
Снятся, как их в кринки
клали, в молоко.
Как сто второй икринке
без мамы нелегко!
Крали Заонежья
наблюдают сны,
как миллионерши
заморожены.
Кровь, когда-то жидкая,
стынет у нуля.
Спят на пороге жизни
комочки хрусталя.
Что же у таможни
глаза на лбу?
Царевна размороженная
качается в гробу.
Бриллианты сбросит,
попудрит прыщ,
потягиваясь, спросит:
«Уже Париж?»
Превратиться в льдышку.
Превратиться в сон.
И услышать: «Дышит!» —
из иных времен.
В озере присниться
или на реке,
нефтяному принцу
отказать в руке.
Почему не верим?
Подо что заем?
Почему царевен
наших продаем?
Что тебе привезти из Парижу?
Кроме тряпок, т. д. и т. п.
Пожелтевшую нашу афишу
И немного тоски по тебе.
Небогатые это подарки.
Я в уме примеряю к тебе
Триумфальную белую арку,
Словно платье с большим декольте.
Энергиею переполненный,
шагаю в тусклом свете дня.
Душа, как шаровая молния,
ударит в небо из меня.
Я так измучен этой жгучей,
наичернейшей из свобод.
И так легко! И луч из тучи
торчит, точно громоотвод.
К барьеру
(На мотив Ш. Нишнианидзе)
Когда дурак кудахчет над талантом
и торжествуют рыцари карьеры —
во мне взывает совесть секундантом:
к барьеру!
Фальшивые на ваших ризах перлы.
Ложь забурела, но не околела.
Эй, становитесь! Мой выстрел — первый!
К барьеру!
Бездарность славословит на собранье,
но я не отвечаю лицемеру,
я пулю заряжаю вместо брани —
к барьеру!
Отвратны ваши лживые молебны.
Художники — в нас меткость глазомера —
становимся к трибуне и к мольберту —
к барьеру!
Строка моя, заряженная ритмом,
не надо нам лаврового венца.
Зато в свинцовом типографском шрифте
мне нравится присутствие свинца…
Ко как внезапно сердце заболело
и как порой бывает не под силу —
когда за гранью смертного барьера
жизнь пахнет темнотой и апельсином…
Ваш стиль классично-скопидомен,
глядите тухло-глубоко,
у рафаэлевской мадонны
от вас свернется молоко.
Ах, переход в полосках белых
асфальта между двух канав!..
Лежала улица и пела,
кусок тельняшки показав.