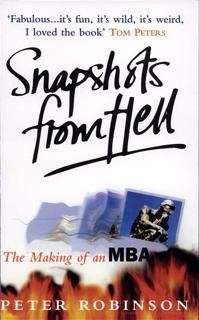А секунды тикают и уносят с собой часы моей жизни.
Мы с Конором вместе посещали занятия по «лесоводству» и «микро» и не реже пары раз в неделю ходили вместе обедать. Но даже при всем при этом для нас было сложно превратиться в настоящих друзей, потому что обоим приходилось функционировать на пределе физических возможностей. Затратив энергию на конспектирование в классе, чтение учебников и выполнение домашних заданий, ежедневно живя только на нескольких часах сна, у нас едва-едва оставалось сил, чтобы суметь просто дышать, не говоря уже о том, чтобы вести беседы.
— Двадцать семь часов, — сказал как-то Конор во время обеденного перерыва, нарушив долгую, апатичную тишину, висевшую над нашими измученными недосыпанием головами. Конор пояснил, что он тщательно подсчитал все часы своего дня. Каждое утро начиналось в 7.30, когда Конор тратил час на то, чтобы поднять, одеть и накормить своего маленького сына. Второй час Конор посвящал на утренний переезд, томясь в пробках между Сан-Франциско и Пало-Альто. Он прибавлял десять часов на занятия, обед, практикум в компьютерном классе, поиск книг в библиотеке и работу в студенческих подгруппах; еще час на возвращение в Сан-Франциско; потом еще час на игры с сыном (если тот еще не лег спать) и разговоры с женой, семь часов на самостоятельную работу и шесть часов на сон.
— Как я ни складываю, — жаловался Конор, — а результат один и тот же. — Он поправил очки. — Чтобы быть мужем, отцом и студентом, мне надо двадцать семь часов в сутки. С двадцатью четырьмя у меня ничего не выходит.
Я даже со своими соседями, и то едва перекидывался словом. Временами, после возвращения в наш дом в Портола-Вэлли, до меня доносился шум от стиральной машины или приглушенный голос из кабинета Джо, когда он звонил своей подружке. Очень, очень редко я наталкивался на Джо или Филиппа на кухне. Но всю первую половину семестра нам удавалось перебрасываться только самыми короткими фразами.
Если уж на то пошло, Джо вообще выглядел даже еще более нервным, чем я. Я-то просто пытался выжить, но он поставил себе задачу преуспеть. "Все, я побежал", — стало его любимой присказкой. По утрам: "Все, я побежал. Надо хорошее место занять". По вечерам: "Все, я побежал. Надо успеть на подгруппу. А то как с этим можно разобраться?"
Филипп, будучи швейцарцем, сочетал в себе характеристики как француза, так и немца. Жившего в нем немца Стенфорд шокировал. Как-то вечером Филипп посетовал, что в Европе "студенты не ходят в майках и шлепанцах на занятия и не пьют кока-колу на лекциях".
Но вот его французскую сторону Стенфорд интриговал:
— Боже, какую же агрессивность американские дамы проявляют в классе! Тянут руку до самого потолка, пытаются привлечь к себе внимание профессора. Соревнуются. Я так скажу: им недостает женственного элемента. И все же они мне очень интересны…
У меня к Филиппу была масса всяческих вопросов. Почему, к примеру, он пошел именно в калифорнийскую бизнес-школу? Почему не на востоке США или, скажем, вообще в Европе? Но в те первые недели просто не было времени, чтобы ближе узнать Филиппа или Джо, хотя мы и спали под одной крышей, пользовались теми же санузлами и держали свою газировку и пиццу в одном и том же холодильнике.
В обеденные перерывы, в единственное мое свободное время, я пробовал знакомиться с иностранцами. В общем и целом, на нашем курсе их было больше шестидесяти человек, включая четырех французов (причем каждый из них водил по старой, огромной машине с откидным верхом. Естественно, американской), несколько индусов, полдюжины латиноамериканцев, два израильтянина, два филиппинца и один таиландец. Две наиболее многочисленные группы, каждая численностью более десяти человек, были представлены англичанами и японцами.
Судя по акценту, британцы варьировались от среднего до высшего класса, хотя, впрочем, социальный статус их не волновал. Они представляли собой Великобританию Маргарет Тэтчер. Их волновала представившаяся возможность. Их волновал бизнес, их волновал шанс сделать деньги. Вместо того, чтобы упрямо следовать стереотипу сдержанности, игры в крикет и пятичасового чаепития, как это предписывали обычаи их острова, они полностью отдались калифорнийскому образу жизни. "Я по тихоокеанскому хайвэю добирался аж до Мендочино, — как-то сообщил мне один британец, — несся как одержимый. Люблю крутые повороты, солнце, море, горы. Да-а, Калифорния великолепна…"
Лишь один-единственный из них оправдывал привычный стереотип англичанина. В родственниках Руперта Дапплина числился то ли герцог, то ли граф, что-то в этом духе. Он считал обязательным пить чай вместо кофе, а когда говорил, губы едва шевелились.
Прежде чем поступить в Оксфорд, Руперт считался первым учеником в Итоне. После этого его карьера пошла вверх, следуя эксклюзивному стилю высшего общества. Он занимал должность ассистента при Канцлере Казначейства, британском эквиваленте нашего министра финансов. При всем при этом, причем как раз в силу своего происхождения, дух которого столь глубоко укоренился в классовой структуре и традициях, именно Руперт наиболее живо являл собой новую, меритократичную и предприимчивую Британию, которую так настойчиво миссис Тэтчер вызывала к жизни.
— Казначейство оказалось ужасно старомодным, — сказал мне Руперт. — Все обдумав, я пришел к заключению, что центром интересов в Британии становится бизнес, а не правительство.
В былую эпоху, объяснил Руперт, почетную карьеру для тех, кто — подобно ему самому — ходил в привилегированные закрытые школы для мальчиков, а затем в Оксфорд или Кембридж, можно было сделать в церкви, армии или военно-морском флоте, Министерстве иностранных дел или же в Казначействе. Вплоть до недавнего времени, к примеру, до поколения его отца, то есть, для тех, кто достиг совершеннолетия в пятидесятые и шестидесятые годы, все это по большей части сохранялось. Но теперь старый порядок отмирал. "Не думаю, чтобы кто-то из моих сверстников этим огорчались, — сказал Руперт. — Когда столько талантов забирает себе государственная служба, не приходится удивляться, что наш уровень жизни упал ниже итальянского".
Сейчас наиболее привлекательные карьеры лежали в бизнесе, особенно в банковском и консалтинговом. "Как бы то ни было, — добавил Руперт, — я, скорее, похож на тебя. Прослужив в госаппарате, мне захотелось попасть в частный сектор, пока я на это способен".
Руперт не подходил под определение «лирика», но, тем не менее, даже ему Стенфорд представлялся трудным. Как-то раз, когда я в обед пересекся с ним в кафетерии, его лицо показалось мне особенно желтовато-болезненным. Под глазами пурпурные круги, волосы спутаны, а одежда помята до такой степени, что для члена одевающегося в мягкий твид высшего класса Великобритании это было нечто из ряда вон выходящим. Но при всем при этом Руперт сохранял губы плотно поджатыми. Он сдержанно кивнул мне в приветствии и затем сказал только одну фразу: "Определенно, здесь они умеют держат человека в узде".
Японцы образовывали собой подгруппу, которую, как я обнаружил, можно описать только одним словом, пусть даже это и штамп: непостижимость. И причина была самая что ни на есть примитивная. Они едва говорили по-английски. Тот разговорный язык, которым пользовались американские студенты в свободной обстановке ("Лопал уже? — Не-а. — И я нет. Пошли заточим?") для японцев был просто-напросто недоступен. Если задуматься, они, наверное, и нас-то считали непостижимыми. Когда японцы и американцы предпринимали-таки усилия как-то пообщаться, все это именно тем и оборачивалось — одним большим усилием. Можно было видеть, как обе стороны напрягаются и дарят друг другу особенно широкие улыбки, и как потом японский студент мучительно строит фразы, в ответ на что американский студент не менее мучительно пытается понять, что же было сказано. Даже гораздо позже, когда у нас на руках оказалось больше времени, японцы предпочитали держаться друг друга во время отдыха. А что делать? Быть рядом с американцами — работа не из легких.
Одного из японцев, которого мне удалось узнать лучше других, звали Дзэнъитиро Такагава. «Дзэн», — сказал он, когда мы знакомились. Я выдавливал из себя одну вымученную улыбку за другой, пока он повторял это коротенькое слово, и лишь потом я смог догадаться, что он имел в виду не форму буддизма, а просто предлагал звать себя этим прозвищем. "Я работаю с Мицуи. Я работаю здесь в Америке. Здесь в Калифорнии. Уже два года". Дело шло медленно.
Мы с Дзэном провели некоторое время вместе, перед самым началом семестра, когда у нас оказалась пара свободных дней, между подготовительными занятиями и официальным курсом. Как-то вечером мы сходили в японский ресторан в центре Пало-Альто. "Я тебе покажу, как едят настоящие японцы", — сказал Дзэн, предвкушая это событие. Он заказал суси и суп мисо.[12] Затем попросил официанта принести нам тарелку с грудой овощных тэмпура: большие куски капусты и брокколи, жареные в кипящем масле, что на вкус делало их похожими на "Кентакки Фрайд Чикин". Дзэн настоял на том, что платить будет он ("Японская еда, японский человек должен платить!") и завершил вечер, одну за другой заказывая бутылочки с горячим сакэ. Мы пропустили далеко не один тост за предстоящий год. Вскоре и я сам начал звучать, как Дзэн. "Американский человек и японский человек, друзья! — слышал я от самого себя. — Бонсай! Бонсай!" (Я был уверен, что "бонсай!" означает "да здравствует!" Дзэн дождался следующего утра и очень-очень вежливо поведал, что прошлым вечером я именовал его карликовым деревом). У меня были очень большие надежды на дружбу с Дзэном.