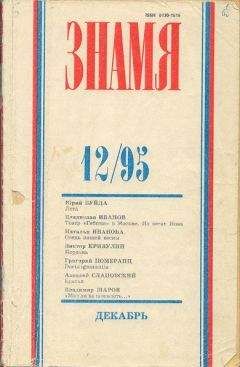Ознакомительная версия.
Закончив это расследование и успокоившись на их счет, он теперь не скрывал, что благодарен, что они дали ему время освоиться, привыкнуть к Кимрам, вдобавок он сделал для себя на редкость важный вывод: Россия вся такая, и в хоре, который он набрал в Петербурге, как бы ни пыталась убедить его полиция, ничего странного не было; те, кто пел у него, ничем не отличались от тех, кого он встретил в Кимрах, большой город или маленький, столица или уездное захолустье — везде одно и то же. Конечно, Россия не состояла лишь из эсеров, скопцов и гимназистов, но все были до какой-то невозможной степени связаны друг с другом, все были всем родня и знакомые, все друг друга готовы были понять и оправдать, помочь и дать убежище.
Наверное, в этой мысли не было ничего оригинального, но в Петербурге ему казалось, — да и кто только мог, старались его убедить, — что страна расколота, вот-вот пойдет стенка на стенку, здесь же его поразило, насколько это неправда. Конечно, они умели быть друг против друга, умели ненавидеть друг друга и убивать, но в том, как они это делали, как ненавидели и любили, как убивали и спасали, они, вне всяких сомнений, оставались народом, целым, и Лептагова это утешило. Значит, они и в самом деле были из одного хора, им просто надо было помочь спеться, зазвучать.
В сущности, это и стало основой того певческого коллектива, что некоторое время спустя начал собираться вокруг Лептагова в Кимрах и впоследствии превратился в хор «Большая Волга». Надо сказать, что Лептагов отнюдь не сразу поддался на настойчивые просьбы и даже требования снова организовать хор, но после полугодовой осады капитулировал.
Второй раз за три года принимаясь за создание хора, Лептагов не питал никаких иллюзий. Последние месяцы репетиций в Петербурге многое ему объяснили, в частности, он понял и научился быть дирижером хора, который пытается уйти из-под его власти, научился самой этой власти и ни от чего из этого опыта не собирался отказываться.
Скоро он узнал и для чего они дали ему эту власть над собой. Они хотели, чтобы он научил их, помог им покаяться перед лицом Господа. Это должно было быть их, только их собственное покаяние, но они боялись, что без него, Лептагова, у них ничего не получится. В хоре было такое страшное желание покаяться, что Лептагов был сначала испуган им. Раньше в Петербурге, когда они каялись первый раз и еще совсем не умели говорить с Богом, они старались ни на шаг не отступать от «Титаномахии», как бы каяться его, лептаговским, голосом и языком. Они ничего не пытались скрыть и спрятать, не отказывались ни от одного из своих грехов, они просто не умели иначе, он же не захотел их понять. Да, конечно, это был чужой язык, и их грехи переводились на него очень плохо, и все-таки, похоже, Господь их тогда услышал.
В Кимрах едва речь зашла о хоре, Лептагов им это сказал и еще сказал, что каждый из них может говорить с Господом один на один, он, Лептагов, им больше не нужен. Но они не захотели его слушать, они заявили ему, что поняли, что грех их был грехом целого народа, как грех Содома и Гоморры, и, как и там, среди них не нашлось и десяти праведников, ради которых Господь готов был бы их пощадить. Теперь они должны покаяться всем народом, «всем миром», и для этого Лептагову надо собрать их вместе, соединить. Сказали, что ему предстоит возвести из их голосов храм. Единый Храм Единому Богу. А дальше они своей молитвой и своим покаянием его освятят, принесут Господу бескровную жертву. Прежними и грядущей смутой вера в них была разрушена и испоганена, он должен отстроить ее заново. В Лептагове не было сомнения, что все это сведется к одной из тех бредовых идей, которыми они столь часто болели, что их новое покаяние будет так же грешно и далеко от Бога, как их бунты и смуты. Раньше он бежал, но был возвращен, на этот раз он не осмелился уклониться, подчинился Господу, который послал его к ним.
Люди, с которыми он здесь столкнулся, отбывавшие ссылку эсеры, хлысты и скопцы, тоже или ссыльные, или просто поселившиеся в Кимрах, да и его ученики, все они, как я уже говорил, были о нем хорошо наслышаны. Они знали и суть того конфликта, что возник у него с хором в Петербурге, знали и о той негласной договоренности, которая была между ним и хором достигнута, и с самого начала, с первых спевок спешили ему показать, что они другие, они всегда будут кротки и послушны, время революций прошло, они понимают, кто он и для чего к ним послан. Лептагову было странно, что они принимают его за пророка, по-прежнему принимают, хотя вещь, которую он должен был написать, он не напишет. Он был смущен и их кротостью и тем, что пришел к ним с пустыми руками. Тогда бежал, сегодня с пустыми руками, а ведь они верили, что он пришел их спасти. В них и вправду было огромное желание очиститься, покаяться — немудрено, что Господь их услышал.
В Кимрах при знакомстве он сказал им, чтобы они пели свое, пели только то, что сами хотят петь. Они подчинились ему, но сделали это без радости, со страхом и слезами. Они боялись, что это провокация — ему просто нужен предлог, чтобы обойтись с ними так же, как с петербургским хором. Успокаивая хористов, Лептагов долго и нудно объяснял, что их голоса для него совсем новые, что он их ни разу не слышал и ему, чтобы для каждого голоса подобрать, что и как петь, надо по многу раз прослушать хор. Только тогда он сможет разобраться, кого куда поставить. Не знаю, насколько он сумел убедить их, но они начали петь и за неделю распелись. Они и вправду пели то, что больше всего любили, пели для себя, пели, конечно, чтобы и ему показать товар лицом, в общем, он совершенно неожиданно, легко и малой кровью, получил то, чего хотел — избавился от последних остатков «Титаномахии». Для него это был большой день, он понял, что встал теперь на ту дорогу, по которой пойдет и дальше, что он, как и этот народ, кончил блуждать и плутать, кончил бежать, куда глаза глядят, и противиться Богу тоже кончил. Он чувствовал себя тогда очень хорошо, пожалуй, он вообще ни раньше ни позже себя так хорошо не чувствовал. Он и сейчас не понимал Господа, но готов был честно и со старанием делать то, что Господь от него хотел.
Постепенно он принялся собирать все, что было их верой, и все, в чем они хотели покаяться перед Богом. Он стал собирать их молитвы и слезы, их грехи и обиды, и надежды их тоже, он строил для этого пристани и склады, намечал, что где будет лежать, где будут храниться инструменты, где оснастка и прочее-прочее, что потребно для строительства. Он и вправду получил подряд на возведение храма и вот собирал артель, обдумывал, кто и когда ему понадобится, чтобы на разных этапах работы не занимать лишних людей, какие материалы, какие голоса, и все это он в себе расписывал: краны, разные противовесы, балки для перекрытий, блоки для фундамента. Начиная, он уже знал, что вдоволь будет и веры в Бога, и покаяния, и грехов, он же из всего этого должен поставить Господу храм, храм, посвященный Ему Одному, который бы и стал их молитвой.
В Кимрах, особенно в первые годы работы с новым хором, Лептагову было до крайности сложно. Смирившись и приняв прежде немыслимые для него правила игры, он как композитор начинал очень медленную и очень трудную эволюцию. Правильнее всего назвать эту эволюцию переходом от композитора к хормейстеру, еще точнее от композитора к строителю и архитектору. Раньше он работал с самыми что ни на есть простыми элементами музыки, нотами и звуками, то есть принимался за строительство с того уровня, когда материал податлив и не своеволен, дальше, шаг за шагом складывая здание своей оратории, он умел еще в зародыше подавлять любое недовольство, любые конфликты. Эти попытки бунта с неизбежностью возникали время от времени в его «Титаномахии», следы их и сейчас найти нетрудно, но это именно следы, потому что оратория несомненно отличается редким единством и цельностью. Справляться с сопротивлением ему помогало то, что он всегда всем и каждому мог сказать, что это именно он их породил, он дал им жизнь. Те связи оратории с античной музыкой и английскими и шотландскими народными мелодиями, о которых я прежде говорил, были не более чем намеками, напоминанием о них, но ни в коем случае не прямым заимствованием. В Кимрах же он столкнулся с тем, что должен строить из совсем другого, незнакомого и малоподвластного ему материала, материала, который он не чувствовал, и не знал, как с ним работать.
В сущности, каждый из его исполнителей приходил к нему с уже законченной и завершенной партией — это была его жизнь, такая, какой он ее прожил, это был его собственный и ничей другой грех и собственное его раскаяние. Все это не нуждалось ни в добавлениях, ни в исправлениях. Это была та высшая самостоятельность, какой ее признавал за человеком Господь, говоривший, что любая живая душа для Него больше целого мира. Сама по себе больше. Они все это знали и тем не менее настаивали, что он может и должен сложить из их жизней, из их молитв и покаяний как бы Третий Храм взамен первых двух, что разрушили ассирийцы и римляне. Они требовали, настаивали, что это необходимо, он же при первых затруднениях (особенно так было в начальные месяцы спевок) принимался думать, что это совершенно немыслимая, ненужная, возможно, даже кощунственная работа.
Ознакомительная версия.