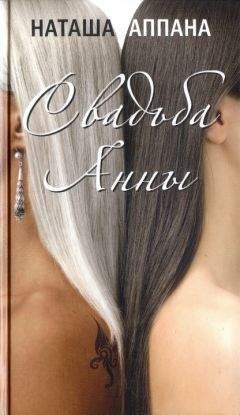Анна в семнадцать лет была умненькой, выдержанной, умеющей себя вести девочкой, она носила ладно скроенные брюки и туфли с круглыми носами. Единственная прихоть, которую она себе позволяла, это разноцветные шарфы и палантины, — и я привозила ей эти шарфы и палантины из всех поездок. Я в семнадцать была застенчивой и робкой, но сгорала от желания увидеть все. Больше всего меня печалила карта мира, на которой я отмечала страны, где мне никогда не побывать: ну как я попаду на Камчатку, или на остров Клиппертон,[24] или в Анадырь? Не очень помню, какие вещи носила, но что у меня не было туфель с круглыми носами — это точно! В семнадцать я с легкостью уехала от родителей, и мне кажется, что Анна в свои семнадцать тоже была вполне готова жить отдельно от меня. Когда я внезапно осознаю, что мы обе, она и я, запросто могли жить вдали от родителей, у меня аж дыхание перехватывает. Вот что получается, если все время сравниваешь, взвешиваешь: Анна в семнадцать — я в семнадцать, я в десять — Анна в десять… Вот что получается, когда ищешь, что нас объединяет, чем можно было бы гордиться, говорить, например, что мы с Анной совершенно одинаково готовим рис по-индийски, что, когда мы спим, и у нее и у меня кулаки слегка сжаты, будто мы боимся выпустить секрет, что мы обе широким и уверенным жестом закидываем на плечо край палантина — об этом бы вспомнить, так нет!.. вместо этих мелких деталей, объединяющих мать с дочерью, дочь с матерью, вместо этих крохотных счастьиц я вспоминаю: мы обе безразличны к своим родителям!
О да, я к своим была безразлична. Настолько, что ни разу с тех пор, как уехала, не побывала на Маврикии. Мне часто хотелось туда, я бывала совсем близко — например, на Реюньоне, и по вечерам я себе говорила, что моя страна вот тут, совсем рядышком, и что если встать на цыпочки черной-пречерной ночью (на островах ночи именно такие) и посмотреть в сторону юго-запада, то, наверное, можно увидеть огни — скажем, на горе Морн. Когда мои родители умерли, я и пальцем не пошевелила, чтобы туда поехать, мне показалось это неприличным, и я не хотела оказаться лицом к лицу с семьей, я — мать-одиночка, я спряталась, бежала от них, я осталась взаперти на новой своей родине, в богатой стране, в развитой стране, в стране, где я могу родить ребенка для себя и ходить с высоко поднятой головой. Я вдруг начинаю на себя злиться, ух, как же я на себя зла! Но я отлично понимаю, что это отнюдь не прилив дочерней любви, не раскаяние, которое пришло годы спустя, а просто страх: вдруг Анна поступит со мной так же, словно в ответ на то, что я сделала сама. Зеркало, которое показало бы мне мою собственную низость, способ вынудить меня к расплате, заставить меня почувствовать то, что чувствовали мои родители. Мне жарко, я обливаюсь потом, мне кажется, что если Анна не придет на мои похороны, это опять будет по моей вине, я более чем заслужу это.
Я так люблю свою дочку, что не хотела бы ее отпускать, мне хотелось бы, чтобы она была тут, рядом, мне хотелось бы, чтобы она плакала, когда я умру, чтобы она говорила обо мне со слезами на глазах даже годы спустя, чтобы она грустила обо мне и открывала мои книги с тяжелым вздохом. Я воплощение эгоизма, и мне на это наплевать. Я, черт побери, мать ей или кто? Она обязана обо мне сожалеть. А как иначе? Она почувствовала бы облегчение, ей было бы все равно, как было мне? Неужели я и впрямь все упустила?
— Расскажешь, как там, да, мама?
Это Анна своим ясным, хорошо поставленным голосом мешает мне и дальше погружаться в мрачные мысли. Я принимаюсь играть с едой, как невоспитанное дитя. Давлю фрикадельки, делаю из них пюре, смешиваю его с соусом, все это превращается в кашицу, которую уж совсем не хочется брать в рот. Говорю, что нечего особенно рассказывать, мои родители умерли, брат живет где-то в Калифорнии, я даже лица его не помню. Собираюсь уже замолчать, но тут вспоминаю цветы. И говорю Анне, что цветы моей страны — самые прекрасные на земле. Что их никто не выращивает, они растут сами где им нравится. Они пахнут, как солнце, как рассвет, как ночь, — где еще найдешь аромат, подобный этому? Они четко выделяются на фоне синего неба, они бывают огромные, как у гибискуса, хрупкие, как у плюмерии, пугающие, как у огненного дерева, изменчивые, как у гуаявы ранним утром, связанные навеки, как у шафрана… И добавляю, что сады Версаля рядом с этим — полнейшее убожество, и Анна с Ивом хохочут.
Я смотрю на них и думаю, что вот сейчас-то они меня любят, мне хочется их обнять, сразу обоих, прижать к себе — так, чтобы немножко задохнулись.
В этот момент возвращается Эрик (может, так в программе написано: «13.30 — возвращается Эрик»?) и садится с нами пить кофе. Говорит Анне, что остальные уже приехали в замок. Мы начинаем спешить, я немножко цапаюсь с Ивом на тему, кому платить за обед, я вырываю у него счет и уверенно заявляю: «Послушай, это у моей дочери сегодня свадьба!» Он мне отвечает тем же тоном, забирая счет себе: «Интересное дело, как будто она не моя тоже!» — и время останавливается. Мне бы хотелось, чтобы день на этом и закончился, именно в ту секунду, когда мы, Ив и я, по волшебству стали родителями Анны. Я бы хотела поставить точку в этой истории, перевернуть страницу, тут и подвести черту — а что к этому добавишь? Великолепный финал, хеппи-энд с маленькой виньеткой в романтическом стиле, гирлянда, букетик — из тех рисунков, какие бывают в конце мультфильмов или фильмов о любви. И тогда моя жизнь стала бы похожа на прекрасно упакованный подарок.
Но у нас тут не кино и тем более не роман, я не управляю событиями, я ничего не решаю, я подчиняюсь. Кто ставит финальную точку на этом свете, кто решает за нас, бумажных куколок? Ив в конце концов берет верх. Анна — чуть позади нас — молчит, она все слышала, у нее чуть-чуть печальная улыбка, и, когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что мы обе думаем о Мэтью. Моя дочка наверняка рисует себе образ отца-забияки, бродяги, она не раз так его называла, слегка растрепанного, невероятно красивого, в жилетке с сотней карманов, из которых можно вытащить сокровища. А я бережно храню в памяти образ юноши со спиной в звездах, который слушал мой голос и мои книги, не понимая ни слова по-французски.
Мы снова садимся в машину и едем мимо строя мрачных каменных домов с разбитыми стеклами и табличками «продается». Она такая грустная, эта долина Эны. Раньше здесь была живая, активная деревня, тут делали много шелка. Большие, почерневшие от времени дома с маленькими оконцами под самой крышей словно бы давят на землю: это червоводни, питомники, где крестьяне разводили шелковичных червей, выкармливая их листьями тутовых деревьев. Должно быть, это была веселая долина, когда юные девушки с белыми ручками фей, в низко вырезанных блузках и юбках-годэ, разматывали коконы и вытягивали тонкую блестящую нить. Должно быть, у выхода из червоводен их ждали парни. Я представляю себе шелковицы с узловатыми стволами и бледно-зелеными листьями, высаженные плантациями по всей долине и придающие ей неповторимый рельеф, я представляю этих девушек, и парней, и нить, которую они вытягивали, и прекрасные ткани, предвестником которых она была, и вечер после длинного, заполненного работой дня, и рассвет, обещающий хороший день, я представляю это все, я представляю, что в те времена долина казалась молодой и вечной.
После низины мы выезжаем на ровное место — ровное и великолепное. Сегодня 21 апреля, и склоны гор вдали уже совсем зеленые от густой листвы, а поля расчерчены блестящими прямоугольниками рапса, и они похожи на желтые полоски на детском рисунке. Нас в машине четверо, и, когда мы выезжаем на широкую, обсаженную с двух сторон гигантскими платанами дорогу, я открываю окно. Сегодня так редко встретишь платаны по обочинам дороги, люди объединяются в какие-то ассоциации и в конце концов убеждают всех в том, что платаны по обочинам дорог — это опасно. Может, и так, но если их не станет, чем мы будем любоваться, проезжая по сельским дорогам? Мне кажется, мы одни на всем белом свете, мне бы хотелось включить Отиса Реддинга и чтобы мы все вместе пели «Sitting on the Dock on the Вау», облокотившись на окна и дымя сигаретами. Мне хочется моря, мне хочется нежности, — в общем, это прекрасный день для свадьбы.
Я смотрю на кроны деревьев, листья у них мясистые, и, если прищуриться, сквозь ресницы увидишь, как будто стая птиц летит вместе с нами. Мы сворачиваем налево, и нам является замок на горе, словно бы венчающий долину. Широкие, совершенно расшатавшиеся ворота открыты, и вот уже машина подскакивает на земляной дорожке, усыпанной камешками, скорлупками, пустыми оболочками каштанов. Я наклоняюсь к Иву и только что шею не сворачиваю в попытке разглядеть замок за огромным количеством деревьев, высаженных вверх по горе, но ничего не получается.
Анна сидит прямо, плотно, я кладу руку ей на плечо. Мне кажется, она дрожит. Тем не менее, стоило машине остановиться, она первой выходит… даже выскакивает из машины. Идет вперед, останавливается — руки на бедрах, осматривает замок от подвалов до крыши, оглядывается на меня, улыбается Иву и бросает: «Пойду поищу Алена». Это место называется «Холодный замок». Ив стоит спиной к зданию, смотрит куда-то сквозь сосны бора, закрывающего от нас долину, темные дома, ярко-желтые поля рапса, город, который можно угадать чуть дальше по лиловому туману на горизонте. Подхожу к Иву, обнимаю его за талию, его правая рука ложится на мое плечо, длинные пальцы легко касаются верха груди. Если он прижмет меня к себе посильнее, моя правая грудь может спрятаться целиком в его огромной ладони. Анна зовет нас. Говорит, что Ален уже готов, что два часа дня, что до гражданской церемонии осталось совсем мало времени. Торопит нас идти одеваться. Анна выбрала Ива в свидетели, это забавно, ведь могла бы выбрать кого-нибудь из подруг, так нет, Ив для нее все сразу: свидетель, отец, может быть, даже мать.