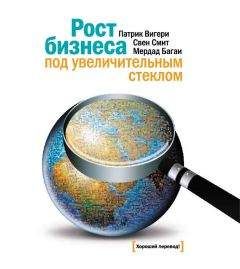А весна уже царила в роскошном венчальном наряде.
У самого окна, словно укрытая пушистыми комками снега, серебрилась цветущая вишня; несколько нежных лепестков занес ветерок на подоконник и на голову больной. За вишней дальше, внизу огорода, зеленела яркой зеленью распустившаяся верба, увешанная золотыми сережками, за ней вырезывался на ясной лазури неба пирамидальный тополь, весь унизанный красно-коричневыми листиками, а дальше, дальше за огородом синела полоска широкой, многоводной реки. В мглистой дали, заворачиваясь влево дугой, она яснела уже металлическим зеркалом, подернутым дымкой тумана; из-за нее подымались легкими очертаниями сизые с пестрыми пятнами горы, на верхней линии которых словно висел в воздухе и сверкал серебристыми куполами грациозный контур пятиглавой церкви стиля ренессанс. Издали доносился шум суетливой жизни и протяжный звон одиноких колоколов. Под окном чирикали веселые воробьи, сизые ласточки мелькали в воздухе быстро и взмывали у окошка крылом; в кудрявых кустах шныряли суетливые куры и сбегались взапуски на призывный крик петуха…
Больная отвела тоскливый взор от чарующей дали, пытливо взглянула на синее безответное небо и, глубоко вздохнув, закрыла свои усталые очи.
— Эй, сядь мне, не путайся под ногами! — крикнула молодица. — Смотри, Гриць, не серди мамы, а то вместо червоного яичка прикатится к тебе березовая каша!
— Я не хочу березовой каши, ты мне, мама, молочной свари! — подбежал Гриць к молодице и закутал в ее сподницу свою головку.
— Ишь, что выдумал в пост! Прочь, балованный, чуть не опрокинула горшка с кипятком, ступай играть во двор, не мешай тут, а то, помяни мое слово, не понюхаешь завтра ни поросятины, ни пасхи!
— Мне не хочется… — плаксиво наморщился Гриць. Я буду тихо… Ей-богу, тихо…
Больная открыла глаза и поманила слабым голосом хлопчика:
— Ко мне, голубчик!
Гриць подбежал и припал всклокоченной головой к подушке.
Больная начала его гладить сухой и горячей рукой.
— Вот, Гриць, сегодня святая великодная суббота… — заговорила она слабым голосом, прерывая мучительной задышкой свою речь, — а завтра… рано, рано… воскреснет Христос и всем, всем людям принесет… и счастье, и радость… и нас с тобой не забудет: тебе принесет он и пасху, и красные яички, и всякие ласощи, а мне пришлет мою донечку, дорогую мою Лесечку.
— А какая она? — заинтересовался Гриць.
— Немножко выше тебя… беленькая, хорошенькая, с каштановыми волосиками… с карими глазками… с серебряным голоском… Ты полюбишь ее… вы будете вместе играть, яички катать, взапуски бегать…
— А она не пришибет меня?
— Нет, она добрая, ласковая, — успокаивала Гриця тоскующая мать, но и от мысли о своей нежно любимой дочурке глаза ее уже загорались счастьем.
— А ведь правда, вот-вот должна приехать ваша Леся, Анна Павловна, — заметила и молодица, сажая в печь тесто.
— Да, да, я ее жду и не дождусь, — улыбнулось с подушек бледно-желтое личико, облокотившись на руку. — И кажется мне, что сейчас вот она радостно отворит дверь… А то вновь защемит такая тоска, что ее не увижу…
— Полно, голубушка, — звякнула молодица заслонкой, закрывая печь. — К чему такие мысли? Даст бог, поправитесь!.. Вот весна только устоится, и сейчас же поправитесь, как и в прошлом году…
— Эх, в прошлом году не та я была, — глубоко вздохнула больная, упавши вновь на подушку и сжимая костлявой рукой запавшую грудь, — в прошлом году еще много у меня было жизни… хоть и побитой, потоптанной лихими людьми, да все еще не потухшей, а теперь подправила меня вон та обитель…
— И не вспоминайте, серденько! — смахнула с ресниц слезу молодица. — Знаю, знаю… Будь они… прости господи! Все по наговору, все за напраслину… вот и выявилось же, вышли вы оттуда, как и вошли — чистой голубкой…
— Только без крыльев… — глухо простонала больная и попросила воды.
Молодица всплеснула жестяную кружку, набрала из ведра свежей воды и подала Анне Павловне.
А Гриць между тем нашел на лежанке в миске вареники с капустой и начал уплетать их втихомолку.
— Если б не дед ваш… — глотая с паузами воду и ежась от какой-то внутренней боли, продолжала страдалица, — если бы не он приютил… то куда бы мне… такой… одно разве, под тыном пропадать…
— Не думайте об этом… цур йому, — поставила молодица кружку на окно, — что с воза упало, то пропало, а вот лучше о живом подумаем… бог милостив…
— Да я ни на кого не ропщу… Если претерпела, то, значит, это было нужно… значит, и моя слеза потребовалась для общего блага… Ох, много слез прольется, но… это благо все-таки придет.
— Господь с ними, и со слезами, и с горем! — махнула рукой молодица. — Теперь не такие дни, теперь радоваться нужно и веселиться… Вот поговорим лучше о вашей донечке.
— Да, о донечке, о моей радости, о единой утехе! — заволновалась больная. — Вот письмо от нее… я выучила наизусть… Пишет, родненькая, что мама меня простила и ждет к себе в деревню… — и больная дрожащей рукой достала из-под подушки письмо и начала его целовать да прижимать к сердцу.
— Слава богу, слава богу, там наверно поправитесь, а то на родную, на единую доню да гневаться матери, и за что?
— Было за что… мама ведь по-своему думает, а дочка по-своему… Ну, теперь уже простила… и Лесю взяла, как мне приключилась беда… приютила, и вот на великодные святки шлет ко мне похристосоваться и за себя, и за нее… обменяться писанками, а потом вместе с донькой к ней, к своему родному гнезду… Свое ведь гнездо, Оксаночко, хоть бы гвоздями было выстлано… а мягче чужого пуха… Ах, моя родненькая как мне хочется под свою кровлю! Как мне… — больная не смогла окончить фразы. Долгая взволнованная речь истощила последний остаток догорающих сил и сжала спазмами грудь.
— Дышать тяжело… к окну… — прошептала она, закатывая глаза.
Оксана с испугом бросилась к ней, подняла ее на своих мощных руках, словно перышко, и приблизила, придерживав за спину, к открытому окну.
Жадно, раскрывши широко воспаленные уста и подымая с напряжением грудь, ловила больная живительный воздух. Через несколько минут она начала ровнее дышать, в побледневших зрачках снова появился слабый луч света, на желтых щеках выступили два ярких пятна.
— Устала… положите… капель! — пошевелила бесцветными губами больная.
Оксана уложила ее вновь на постель, поправила подушки, рядно, дала капель.
— Только не говорите больше, вы еще слабенькие, лучше бы заснули, набрались сил, а то, почитай, неделю не спите.
Больная грустно улыбнулась, пожала плечами и показала мимикой, что ей бы только похристосоваться с донечкой, увидеть ее, а там — воля божья.
— И увидите, и приласкаете, и не наглядитесь…
В это время в открытое окно влетела изумрудная мушка, а за ней в погоню ласточка; сделав круга два под потолком в хате, она изумилась, что попала в такую темную клетку, и со страху присела на изголовье больной.
Гриць первый заметил нежданную гостью, крикнул: "Ластивка!" — и с вареником во рту бросился к ней.
— Стой, не тронь! — остановила его жестом Оксана. — Это благодать божья, а ты хочешь вспугнуть… Видите ли, хворенькая моя, ласточка вас навестила, — это ведь она вам несет радостную весть. Вот побей меня бог, если сегодня же не прилетит к вам такое счастье, какого вы и не ожидаете!
— Благовестница! — вскинула на птичку глазами больная и снова их закрыла в истоме.
А ласточка чирикнула что-то приветливо, вспорхнула и улетела в открытое окно.
Оксана, приметив ровное дыхание у больной, отошла на цыпочках от ее постели, надела на Гриця шапку и свитку и шепотом выпроводила его за дверь.
— Налопался уже, так и поди погуляй по двору, да не бегай мне в хату: тетя заснула, и тесто может в печи маком сесть.
Вырядив Гриця, она положила в продолговатую рынку поросенка и курицу, смазала их маслом и поставила тоже в печь, а сама умылась и начала уже по- праздничному одеваться… Да и было пора: солнце, обойдя большую половину неба, начало уже клониться к закату.
Анна Павловна была дочерью зажиточной дворянской семьи, принадлежавшей к старым малорусским родам Свичек; родители ее необычайно кичились своей фамилией.
Анеточка родилась в начале пятидесятых годов, чрез пять лет после появления на свет божий первородного братца ее Пьера, и закончила собой продолжение славного рода. Первые годы ее прошли в родном селе Жовнине, в просторных, светлых комнатах старинного помещичьего дома, под тенистыми липами роскошного парка, на золотом песке игривой речки Сулы.
Нежная заботливость и ласки родителей, — особенно отца, — любовь всех окружающих, улыбающийся рассвет ее дней — все это клало на ее детскую душу светлые блики и наполняло головку радужными мечтами.