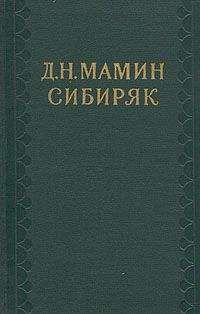— Я не знаю, всех ли он принимает, но если я попрошу, не откажет точно.
Не хотел, чтобы мои слова прозвучали покровительственно, но сказал — и тотчас почувствовал, что прозвучали именно так.
Напомнить бы ей про те два балла! Но я не стал. Сама должна помнить, если имеет хоть грамм совести. Впрочем, я не уверен, что у учителей имеется совесть — то есть не вообще, вообще-то они люди как люди, а для внутриклассного употребления: когда входят в класс, раскрывают журнал, садятся лицом ко всем остальны грешным людям, словно бы образуя единоличный президиум, они делаются какими-то не такими. Они уверены, что всегда правы, что знают истину, непогрешимы как папа римский — я не встречал еще ни одну сомневающуюся учительницу (мужчин-учителей у нас не было и нет, кроме физкультурника, трудиша и военрука), а если из-за последнего обстоятельства сравнение с римским папой хромает, что ж: будь в природе римская мама, она бы воображала себя еще более непогрешимой, чем папа. А когда человек ни в чем не сомневается, совесть ему не нужна — просто не вписывается в конструкцию, все равно как в конструкции трамвая был бы лишний руль: зачем руль, когда всегда катишься по рельсам?..
— Чего ей нужно? — спросила Кутя, едва я вышел из класса.
Ждала у двери!
— Хочет испробовать лечение мамина сибиряка.
— Дошла! И правда: плоды просвещения.
— Просвящения, — удачно нашелся я. — Теперь все ищут чего-нибудь священного. Если бы я поступал на философский, непременно бы потом написал диссертацию: «О диалектическом переходе просвЕщения в просвЯщение».
Если бы не Кутя рядом, я бы не сумел так скаламбурить. На самом деле, любимая женщина вдохновляет. И я был немедленно вознагражден за свое вдохновение:
— Ой, Мишка, тебе и правда надо идти на философский! Что за охота всю жизнь ловить жуликов? А то идут такие, как наш Антоша, которые считаются гениями за то, что набиты чужими мыслями, как сундук чужими вещами!
Не знаю, сколько своих мыслей у Захаревича, а сколько чужих, но приятно было услышать, что Кутя без почтения говорит о нашем гении.
Я взял Кутю за руку.
— Надо вывести формулу, а потом уж точно рассчитать по ней, кто вреднее для человечества: плохие философы или хорошие жулики? Если вреднее плохие философы, надо идти улучшать философию. Если хорошие жулики — надо их ловить. Еще полтора года до аттестата, может, успею.
— Не надо никакой формулы; ясно, что плохие философы, — важно сказала Кутя. — Потому что плохие философы как раз и разводят хороших жуликов.
— Или разводят, или сами превращаются.
Я не выпускал ее руку, так мы и шли домой — и гораздо убедительнее звучали наши рассуждения, когда рука в руке.
Для Вероники я все устроил. При этом выяснилось, что Липатый успел навести свой порядок в нашем капище, записывал страждущих предварительно и назначал время. Но я не хотел унижаться, просить Липатого, а то бы скоро он и ко мне гостей взялся записывать и назначать — и договорился прямо с маминым сибиряком.
Липатый попробовал было попенять ласково, что он придумал, как удобнее для всех, но я ему ответил довольно грубо — сам не ожидал, вообще-то я грублю редко:
— Лучше чтоб неудобно, да самому, чем удобно по приказу.
— Я разве приказываю, я только стараюсь.
— Видал я таких старателей!
Не уточнил все-таки, что в гробу видал. Да он понял.
Вероника пришла, когда ей назначил я, а не Липатый. Раздел в прихожей, то есть помог снять пальто, но и это так неожиданно — снимать пальто с учительницы, что я невольно подумал: стоит только начать с пальто, установить тем самым новые отношения, а там можно и продолжить… Провел ее мимо трех безымянных посетителей, назначенных по системе Липатого, — и те, естественно, не посмели протестовать.
Мамин сибиряк ей навстречу не встал. Он никогда не вставал перед дамами. Только глянул из своих глазниц-пещер, и Вероника тотчас оробела, как и все робеют под его взглядом, а уж женщины тем более.
— Пришла? Говори, чево болит. Не по женским? У всех баб женские, потому как мечтат много. Мечтат — кровя и приливат. Дети больные потом.
Вероника краснела. Она была бы счастлива остаться наедине с волхвом, чтобы никто не слышал налепляемых на нее диагнозов, но я не выходил. А чего такого? Я часто слушаю, как мамии сибиряк заговаривает болезни или морочит больных, не знаю уж точно зачем же мне выходить при Веронике? Пришла — пусть терпит, как все. Пусть скажет спасибо, что не маячит Липатый со своей сальной мордой.
У меня у сына припадки. Всего четыре годика, а такая астма! Я не принесла, потому что если вынесу на мороз — сразу глотнет холодного воздуха и припадок. Так задыхается — ужасно смотреть. Уж я к кому ни обращалась!
— Во, говорю ж: матеря мечтат, кровя приливат — потом дети падки. Откуда ж здоровью? Мечтат, а дедушка Чур подслушат, залезет под юбки и щекотит.
Вероника терпела. Только не смотрела на меня.
Вошла и матушка. Она в последнее время стала нервно относиться к посещающим женщинам. А мамин сибиряк ничуть при ней не стеснялся:
— Ладноть, приду посмотрю, как твово сынка Чурики щекотят. Старых — дедушка Чур, а малых — евоны Чурики.
Ого, что-то новое: про Чуриков я еще не слыхал! И неужели отсюда спасительные «чурики» в детских играх?!
Когда Вероника вышла, мамии сибиряк припечатал ей вслед свою обычную присказку про бабье жерло. Матушка упрекнула униженно и плаксиво:
— А ты и рад бежать за всякой!
— Мается баба. Чур ей там шекотит. Надоть полечить.
Да, здорово он дрессирует матушку! Но я ее не жалел: сама этого хотела — вот и получила!
Когда я догнал Веронику в прихожей, чтобы одеть, то увидел в ее лице ту же надежду, что у всех, выходящих из нашего капища. А ведь мамин сибиряк еще ничего не сделал, только пообещал зайти. Как мало людям надо, чтобы надеяться! Такая готовность к надежде и вере и есть самое настоящее чудо, гораздо более удивительное чудо, чем то, которое страждущие надеются обрести здесь.
— Спасибо, Ярыгин. То есть Миша. Я так надеюсь, что он поможет Костику. Он ведь помогает, правда? А то уж не знаю, к кому еще.
— Помогает, — кивнул я снисходительно.
До чего жалки становятся учительницы, когда с них слетает профессиональная самоуверенность. Все равно как если бы мамина сибиряка побрить, подстричь под полубокс — что останется? Глаза? Так ведь тоже над голыми щеками они не будут сверкать с первобытной дикостью, как сверкают сейчас, когда над заросшими непролазным волосом щеками они, как костры в пещерах каменного века…
В четверти Вероника выставила мне четверку. Два балла за Пушкина с Дантесом остались в прошлой четверти, а в этой у меня были четверки и пятерки пополам — и вывела четверку. Даже и хорошо — чтобы ни я, ни она близко предположить не могли, будто имеется какая-то связь между моей отметкой и ее визитацией к мамину сибиряку!
Мы собирались, как всегда, встречать Новый год, но мамин сибиряк объявил, что Новый год — так, нищак, а настоящий праздник — Зимние Рожаницы, и праздновать его нужно 8 января. Матушка догадалась:
Так ведь предполагаемое языческое празднование прямо на другой день после православного рождества! Двадцать шестое по старому стилю. Ну правильно, совершенно явственная связь прослеживается: «рождество» — «рожаницы».
Уяснила для себя — скоро сможет проводить экскурсии. Мамин сибиряк подхватил с такой горячностью, будто у него только что украли святыню:
— Наши отецкие праздники попы на себя переиначили вот уж точно! Девка безотцовщину родила — вот ихний праздник! Сироту убогова. Тоже мужа оброгатила. А Рожаницы наши — от их сама Русь народилась, Рожаницы — они всем помогат по бабьему делу, которы рожат да вскармливат.
— А Род как же? Рожаницы ведь всегда при нем.
— При ем. Род свово дела не попустит, ему праздник, когда семя в землю, а зимние — Рожаницы.
На Новый год мы собрались у Захаревича. Я не хотел идти, но он очень звал, и Кутя шла, так не мог же я допустить, чтобы Кутя пошла к Захаревичу без меня!
Мамин сибиряк, когда узнал, что я иду на классное сборище, посоветовал между делом:
— Мишь, ты оттель со стола прихвати Роду какой кош. Штоб помогал. Род поможет — любу бабу ложит.
И когда сели за стол, я вспомнил, отщипнул кусок макового рулета и сунул в кармаи — для Рода.
А Захаревич давил на Кутю — морально. И когда запели «уродцев», Захаревич, конечно, выкрикнул:
— Гими поют стоя! — и первым вскочил. Пришлось встать и остальным, и мне.
Уколовшись о наши щеки,
Об улыбки, скользнувшие криво,
Убегают от нас девчонки
К обаятельным и красивым…
Он смотрел прямо на нее — и она краснела. Я чувствовал, что ей стыдно перед этим нахальным уродцем, что вот-вот она сочтет своим долгом «пожалеть и обнять уродца» — об этом следующий куплет. А давно ли говорила, что наш хваленый гений — сундук, набитый чужими мыслями?!