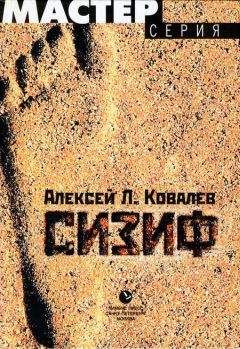— Тьфу на тебя! — изобразил он наконец пересохшим ртом. — И пусть у вас только сестры родятся, раз выросли без уважения к старшим. Да! — завопил он вдруг. — Исполнила! Вот чтоб у тебя язык отнялся — забыл ее попросить! Но попрошу еще!
Дети в овраге кусали кулаки, чтобы не завизжать от смеха, однако каждому было ясно, что старик успел опомниться и теперь выходит из себя, проклиная собственную глупость. Салмоней говорил правду.
В тот же вечер они засели у ручья, приготовив наспех две связанные из прутьев широкие и плотные решетки, — Деион и Магн выше по течению, Сизиф и Афамант ниже, а Салмоней посередине, там, где он в последний раз видел рыбу. План состоял в том, чтобы, как только она вновь себя обнаружит, дать сигнал братьям, которые опустят решетки, перегородив заветной добыче путь к бегству. А там уж — дело двух-трех дней заманить голодную волшебницу в сеть, выпрошенную на время у домоправителя Сулида.
Стоит ли удивляться, что, прежде чем окончательно иссяк первоначальный порыв, дети много дней провели у воды? Видели они и выскочившую из потока рыбу, и сердца их колотились от оправдывающихся ожиданий, а когда добыча попалась — не столь громадная, как они предполагали, и скорее серебристого, а не золотого цвета, мальчишки так переволновались, что перестали улыбаться, и руки их тряслись неудержимой дрожью. Вотще дожидаясь заветного предложения, они никак не решались подсказать бедняге, что она угодила к нужным людям, которые не причинят ей вреда, а наоборот, готовы тут же пойти навстречу, на известных условиях, разумеется. Не выдержал Афамант, старавшийся все это время держаться с достоинством самого старшего.
— Да говори же ты, ну тебя к воронам! — закричал он, топая ногами, и его голос, сорвавшийся посередине восклицания, привел в чувство остальных. Они дали узнице время подумать, опустив сеть обратно в воду.
Ни второй, ни третий вечер не продвинул переговоры ни на волос, но сколько было жарких обсуждений в промежутках, как снова перебирались и отбрасывались заказы, каким загадочным огнем светились их глаза!
В очередной раз вытаскивая хитроумную кольцеватую сеть, они увидели белое брюхо раньше, чем серебристый отлив чешуи, и в лицо им дохнул ледяной ветер страха, не столько даже из-за рухнувших надежд, сколько от незнакомого чувства, что ими совершено нечто неподобающее. Но Салмоней, не терявший присутствия духа ни при каких осложнениях, быстро убедил братьев, что расстраиваться смешно. Сомнения у него были, оказывается, с самого начала, потому что уж очень мало походила эта дохлятина на настоящую необыкновенную рыбу, которую им предстоит поймать. Он-то, в отличие от них, видел, как она выглядит. И снова его усердие увлекло мальчиков — решетки были вытащены из потока, осмотрены и подправлены, все ежевечерне занимали предназначенные места в ожидании сигнала, что-то плескалось в воде, уточнялись условия будущей сделки, пока однажды Салмоней не заявил, что вспомнил одно слово из перебранки Никтея с рыбой, которое как-то выскочило у него из памяти. Говоря о доме, где ее ждут сестры, рыба, кажется, назвала Энипею. «У-у-у…» — загудело в головах у ребят от стремительно отдалившейся цели. Конечно, речка Энипея была еще не необъятной Пиникос, невозмутимо несшей свои воды между Оссой и Олимпом к теплому заливу, но уж, конечно, не была она и безымянным ручьем, знакомым вдоль и поперек. Салмоней еще продолжал бубнить о необходимом для похода снаряжении, но всем было ясно, что никакого похода не будет. Братья даже почувствовали облегчение — предприятие затянулось, а они были еще не в том возрасте, когда человек способен строить дальние планы и знает цену терпению. Да и сам Салмоней уже некоторое время принюхивался к ветру, который нес с востока одному ему ведомые вести. В его голове складывалось, кажется, какое-то новое начинание.
Сизиф был самым беззаветным участником этих затей и оставался преданным Салмонею даже после того, как фантазии брата перестали его по-настоящему увлекать. Но чувству влюбленности суждено было обернуться безмерной жалостью. Неутомимая воля в стремлении создать что-то невероятное, несуществующее в этом мире сочеталась в этом человеке с отсутствием каких бы то ни было других способностей и навыков. У вас на глазах пульсировала, полыхала трескучими разрядами сама чистая энергия созидания, наглухо запертая в косной и немощной плоти.
Когда сердцем Салмонея завладела черноволосая и сероглазая Алкидика, Сизиф не только не сетовал на неизбежное отныне одиночество, но молился богам, чтобы они подарили брату покой и радость в руках этой хрупкой женщины. Однако в день свадьбы, сколько ни старался он себя развеселить, с головой уйдя в хлопоты и бросаясь выполнять каждое поручение, как только торжество было запущено и пошло само по себе, Сизиф сначала затерялся среди рабов, а потом незаметно ускользнул со двора.
Он видел то, чего не видели другие: женитьба не шла Салмонею, даже если бы его супругой стала сама Афродита. Рано или поздно он и любовь подчинит своим фантастическим экспериментам, и не будет от этого добра ни ему самому, ни трепетной, ни о чем не догадывающейся Алкидике. Чувство жалости было таким острым, что у Сизифа заболели уши, а в горле застрял, казалось, тяжелый клубок мокрой шерсти.
Алкидике не пришлось стать жертвой разрушительных проектов, она умерла при первых же родах, произведя на свет очаровательное создание, в котором, как в крохотном сапфире, просияла красота матери. Но ее гибель обрекала Тиро на полное сиротство от рождения, потому что если неодолимый прилив мужских сил и взял в урочный час свою дань с Салмонея, то, разрешив кое-как эти счеты с природой, он быстро оставил позади их последствия, точно так же, как стирал в памяти все следы своих грандиозных и безрезультатных предприятий.
Появление Тиро окончательно отрезвило Сизифа. Они поменялись с Салмонеем местами, но, поскольку тому старший брат был не нужен, вся нежность и привязанность Сизифа обратились к девочке. А той, словно она была в чем-то виновата, предстояло расти не только без матери, но и под завистливым и мстительным опекунством мачехи.
Сидеро, вторая жена Салмонея, не в пример Алкидике, знала, кого берет в мужья. Ловя иногда ее пристальный, холодный взгляд, устремленный на брата, Сизиф не мог избавиться от ощущения, что она прикидывает: долго ли ему еще осталось валять дурака? У нее были основания связывать свое будущее с одной лишь принадлежностью к царской семье, а не с судьбой порченого Эолова отпрыска, потому что выходки его становились все менее безобидными. Сидеро терпеливо дожидалась катастрофы, но в одном ее надежды не оправдались — этот расчетливый брак не приносил детей, и столь желанная ею семейная связь оставалась непрочной, не позволяла ей решительно заявить о своих правах. Даже у никому не нужной Тиро этих прав было больше, и это вызывало ярость, которую мачехе не всегда удавалось скрывать.
Эол с Энаретой, давно махнувшие рукой на бестолкового сына, не очень пеклись и о его неприкаянном ребенке, больше озабоченные будущим своих дочерей, которые с некоторых пор рождались одна за другой, будто вослед проклятию пьяницы Никтея. Сизиф сколько мог заботился о девочке, проводя с нею время в прогулках, напоминая брату, что ей нужны новые сандалии или платье подлиннее. Не успев увести ее из-под очередной вздорной вспышки мачехи, он вытирал Тиро слезы и старался развлечь ее рассказами об их прежних мальчишеских проделках, надеясь внушить девочке то же восхищение ее отцом, какое некогда испытывал сам. Живое воображение, несомненно, было передано ей Салмонеем по наследству, но в этой кудрявой черноволосой головке оно преображалось в еще более странные формы. В четырнадцать лет она заговорила с ним неуверенным, прерывающимся голосом, но без всякого смущения о непременном желании выйти замуж за одного из богов, предпочтительно — за владыку вод Посейдона. И Сизиф не знал, что ей отвечать, ибо казалось, что, кроме как в этих фантазиях, негде больше искать утешения сироте. Да уже и не слишком часто им удавалось проводить время вместе. Тиро выглядела девушкой, а застывший и подозрительный взгляд ее мачехи он теперь все чаще ловил на себе.
Афамант давно правил в Орхомене, Деион — в Фокиде, Магн был так удачлив в устроении дел, что его приморский край вскоре стали называть по имени нового царя Магнесией. Даже младший, Кретей, готовился к принятию власти в Иолке. Сизифа царь эолийцев удерживал при себе, рассчитывая передать ему эту землю, что одновременно и волновало, и огорчало юношу. Он не чувствовал себя готовым управлять людьми, ему хотелось обрести еще какое-то, ускользавшее от него до той поры качество. В любом случае, осуществлять свои царские права Сизиф предпочитал не здесь, где ему пришлось бы лишь следовать по стопам отца, а на новом месте, куда его, как и старших братьев, неожиданно призовут случай и благоприятные обстоятельства.