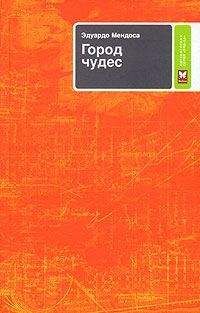Прошла неделя, и, хотя не была пристроена ни одна брошюра, он нашел у себя под подушкой деньги, которые обещала ему Дельфина и которые наверняка сама туда и положила. Онофре мысленно поблагодарил своих работодателей за честность и понимание, проявленные по отношению к нему. «Я их не подведу, – думал он. – И не потому, что меня интересует их революция – мне на нее по большому счету начхать, сколько бы я о ней ни трезвонил, – а потому, что я хочу распространять эти брошюры, будь они трижды неладны, так же хорошо, как лучший из них. И мое усердие, моя осмотрительность уже приносят первые плоды: исчезло недоверие, вызванное моей неповоротливостью, и за мной никто уже не следит – все поглощены этой дурацкой выставкой». Действительно, в 1886 году, то есть за два года до открытия, одна газета предупреждала: скоро в Барселону рекой хлынет иностранная публика с намерением оценить ее красоту и достижения, и поэтому, добавляет автор статьи, драгоценное внимание наших властей в первую голову должно быть сосредоточено на вопросах, связанных с отделкой и украшением мест, наиболее часто посещаемых туристами, а также на проблемах, относящихся к их удобству и безопасности. В последнее время не проходило ни дня, чтобы какая-нибудь из газет не выступила с новым предложением либо пожеланием: построить систему сточных труб в новом городе, – предлагала одна; снести бараки, уродующие площадь Каталонии, – требовала другая; построить на бульваре Колумба каменные скамьи; благоустроить отдаленные кварталы, такие, как Побле-Сеч, поскольку именно через них проходит дорога на Монжуик и туристы обязательно пожелают использовать свое пребывание в Барселоне, чтобы полюбоваться красотами знаменитых источников, которыми буквально нашпигован этот холм. Некоторые газеты были крайне обеспокоены позицией, занятой владельцами гостиниц, ресторанов, постоялых дворов, кафе и семейных пансионов. Они призывали их проникнуться идеей того, что стремление к сверхдоходам не всегда продуктивно, напротив, часто наносит колоссальный ущерб интересам собственников, вызывая неприятие путешественников и отпугивая посетителей. В итоге эти газеты волновало впечатление иностранцев не столько от города как такового, сколько от его обитателей, в чьей честности, профессионализме и воспитанности они откровенно сомневались.
– Пабло, дай мне еще брошюры, – попросил Онофре.
Апостол фыркнул:
– У тебя ушло три недели на распространение только одного пакета, – пробурчал он. – Надо быть расторопнее.
Было пять утра; солнце перевалило через край горизонта и пробивалось сквозь щели ставен мрачной норы, где укрывался Пабло. В режущем глаза свете сияющего летнего утра помещение показалось Онофре еще более тесным, грязным и пыльным, чем в его первый приход.
– Поначалу было трудно, но с сегодняшнего дня все пойдет по-другому, вот увидишь, – заверил Онофре.
Второй пакет он распространил за шесть дней. На этот раз Пабло сказал ему:
– Сынок, не сердись. В прошлый раз я сказал что-то не то. Начинать всегда трудно, а меня иногда подводит нетерпение, понимаешь? А тут еще эта жара и постоянное затворничество, которые меня просто убивают.
Страшная жара давала о себе знать и на территории выставки. Нервы у всех были натянуты, как струна, люди часто срывались, да к тому же появилась дизентерия, проявлявшаяся особо остро в летние периоды и собиравшая обильный урожай смерти, особенно среди детей.
– То ли еще будет, когда закончится строительство и мы останемся не у дел, – предупреждали умудренные опытом старые рабочие.
А самые доверчивые думали, что с открытием выставки Барселона, словно по мановению волшебной палочки, тут же превратится в великий город, где для всех найдется занятие; сфера услуг расцветет прямо на глазах, а нуждающимся будет оказана всемерная помощь и поддержка. Простаки свято в это верили, и над ними вовсю потешались. Онофре умело пользовался всеобщим смятением, говорил о Бакунине и подсовывал свои брошюры. И при этом не переставал твердить: «Господи, помилуй! Как это меня угораздило стать пропагандистом; еще неделю назад я и слыхом не слыхивал об этих глупостях, а сегодня изображаю из себя убежденного сторонника анархизма, будто занимаюсь этим с пеленок, да еще рискую собственной шкурой». И заключал свои размышления неизменным выводом: «Поскольку эта работа одинаково опасна, делаешь ты ее хорошо или плохо, буду делать ее хорошо, чтобы войти в доверие к анархистам». Идея завоевывать сердца людей, не питая к ним ответного доверия, казалась ему верхом мудрости.
– Итак, молодой человек, вы работаете на строительстве выставки? Верно? Прелестно, прелестно, – говорил сеньор Браулио, когда Онофре Боувила вручил ему плату за первую неделю. – Я убежден и, поверьте, тут же сказал об этом моей супруге – она не даст мне солгать, – что выставка, с Божьего благословения, послужит тому, чтобы Барселона заняла достойное место, которое ей по праву принадлежит, – добавил хозяин.
– Вполне с вами согласен, сеньор Браулио, – ответил Онофре.
Кроме сеньора Браулио и его жены, сеньоры Агаты, Дельфины и Вельзевула, Онофре со временем познакомился с остальными обитателями тесного мирка пансиона. Постояльцев было иногда восемь, иногда девять, а иной раз и десять человек – день на день не приходился. Из них постоянных было только четверо: сам Онофре, ушедший на покой священник, к которому все почтительно обращались мосен[23] Бисансио, гадалка на картах по имени Микаэла Кастро и цирюльник, оборудовавший свою мастерскую в вестибюле пансиона, – жильцы звали его просто Мариано. Это был тучный, полнокровный человек с гнилым, скверным нутром, однако обходительный и приятный в общении, к тому же неутомимый балаболка. Может быть, именно поэтому он стал одним из первых, с кем у Онофре установились приятельские отношения. Цирюльник рассказал ему, что обучился профессии на службе в армии, потом работал по контракту в нескольких парикмахерских Барселоны, пока, ввиду предстоящей женитьбы на маникюрше, не возжелал преуспеть на этом поприще самостоятельно и не открыл собственного дела.
– Свадьба так и не состоялась, – рассказывал он. – Незадолго до нашей помолвки она ни с того ни с сего вдруг разрыдалась.
Он, естественно, поинтересовался причиной. Невеста ответила, что какое-то время у нее была связь с одним сеньором. Тот ею сильно увлекся, засыпал подарками, говорил нежные слова, даже пообещал квартиру, и она, не устояв перед таким натиском и сердечным к ней расположением, уступила, а сейчас раскаивается и, само собой разумеется, не может выйти замуж, не поставив его в известность о своем предательстве. Мариано оторопел от неожиданности.
– Но сколько все это продолжалось? – только и смог вымолвить он.
Цирюльник хотел знать конкретно, длилось ли это всего несколько дней или много месяцев, а может быть, и лет. Именно эта подробность казалось ему самой важной. Маникюрша так и не открыла своей страшной тайны – она была слишком взволнована, не понимала, о чем ее спрашивают, лишь твердила в ответ:
– Как я несчастна! Боже мой, как я несчастна!
Потом цирюльник хлопотал, чтобы она вернула обручальное кольцо, подаренное ей на помолвку. Та отказывалась, но адвокат, к которому он обратился, не посоветовал ему подавать в суд, поскольку дело было заведомо проигрышным.
– Вы ничего не добьетесь, – заявил он.
Теперь, вспоминая эту историю по прошествии стольких лет, цирюльник был рад случившемуся.
– Женщины – неисчерпаемый источник трат, от них одни неприятности, – мрачно повторял он. Напротив, о своих профессиональных обязанностях он всегда говорил с большим воодушевлением.
– Я тогда работал в парикмахерской Раваля, – рассказывал он в другой раз. – И вдруг слышу какой-то грохот на улице. Конечно, выглядываю и спрашиваю: что происходит? Откуда такой шум? И вижу у входа целый батальон солдат верхом на лошадях. Тут спешивается адъютант и входит в цирюльню: я как сейчас слышу звон его шпор о каменные плиты. Ладно, он на меня смотрит и спрашивает: «Хозяин здесь?» А я ему: «Нет, он вышел». Он опять: «А кто может постричь волосы?» Я отвечаю: «Ваш покорный слуга, садитесь, ваша милость. «Это не мне, – говорит он, – а моему генералу Коста-и-Гассолу». Представляешь? Нет, ты слишком мал и не можешь его помнить. В то время ты еще не родился. Ну так вот, это был прославленный карлистский генерал, известный своим мужеством и дикой жестокостью. До сих пор помнят, как он с горсткой солдат взял с налета Тортосу и приказал расстрелять половину населения города. Потом его самого расстрелял Эспартеро, тоже великий человек. Если хочешь знать мое мнение, они друг друга стоили, но политика здесь ни при чем, я в это дело не вмешиваюсь. Да, о чем это я? Ага, значит, входит Коста-и-Гассол собственной персоной, увешанный с ног до головы медалями, садится на стул, смотрит на меня и говорит: «Голова и борода». И я, натурально обделавшись от страха, говорю ему: «К вашим услугам, ваше благородие». Ну потом, понятно, стригу, брею – в общем делаю все как надо, а когда заканчиваю, он у меня и спрашивает: «Сколько это стоит?» А я: «Для вас – бесплатно, мой генерал». Он все забирает и уходит.