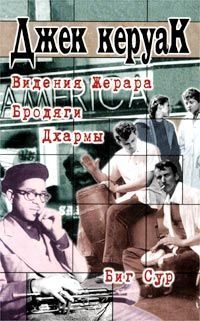Это было прекрасно. Розовый цвет сгинул, скоро все стало лиловым сумраком, и рев тишины был как нахлынувшие алмазные волны, перекатывавшиеся по жидким папертям наших ушей: этого хватало на то, чтобы успокоить человека на тысячу лет. Я молился за Джафи, за его будущую безопасность, за счастье и в конце концов — за то, чтобы он стал Буддой. Все это было совершенно серьезно, все это было совершеннейшей галлюцинацией, совершеннейшим счастьем.
Скалы — это пространство, — думал я, — а пространство — иллюзия. У меня был целый миллион мыслей. У Джафи — тоже. Меня поразило, как он может медитировать с открытыми глазами. А больше всего меня поразило — чисто по-человечески, — что этот невообразимейший паренек, жадно изучавший и восточную поэзию, и антропологию, и орнитологию, и все, что только есть в книжках, бывший крутым маленьким искателем приключений в горах и на лесных тропах, к тому же вытаскивает вдруг из кармана свои жалкие и прекрасные деревянные четки и начинает торжественно молиться совсем как какой-нибудь святой из пустынь древности: как же поразительно видеть это в Америке с ее сталеплавильными заводами и аэродромами. Мир не так уж плох, когда в нем есть такие джафи, — думал я и радовался. Все болящие мышцы, голод в желудке — само по себе достаточно погано, к тому же — тебя окружают темные скалы, и рядом нет никого, кто мог бы успокоить тебя поцелуями и тихими словами; но вот просто сидеть здесь, медитировать и молиться за весь мир с другим серьезным молодым человеком — уже ради этого стоило родиться, чтобы потом умереть, как это и произойдет со всеми нами. Что-то получится из этого во Млечных Путях вечности, простирающихся перед всеми нашими призрачными непредубежденными взорами, друзья. Мне захотелось рассказать Джафи все, о чем я думал, но я знал, что это не имеет значения; больше того — он все равно и сам все это знал, а молчание — золотая гора.
— Йоделахи-и! — спел Морли, было уже темно, и Джафи произнес:
— Что ж, похоже, он еще далеко. У него хватит ума разбить сегодня внизу собственный лагерь, поэтому пошли готовить ужин.
— О'кей. — И мы для его успокоения еще пару раз поорали «хоо!» и оставили беднягу Морла темной ночи. Мы знали, что ума ему достанет. Так и оказалось: он стал лагерем внизу, завернулся в оба своих одеяла, улегшись на надувной матрас, и проспал всю ночь на той несравненной счастливой лужайке с озерцом и соснами, и рассказал нам об этом на следующее утро, когда, наконец, до нас добрался.
Я пошарил вокруг и насобирал маленьких палочек, чтобы разжечь огонь, а потом пошел собирать хворост и закончил тем, что подтаскивал к костру здоровенные валежины, валявшиеся повсюду. Мы раздули такое пламя, что Морли должен был его увидеть за пять миль, вот только сидели мы в глубине плато, и нас от него скрывал утес. Костер испускал мощные заряды жара, которые впитывались в наш камень и отбрасывались им назад с такой силой, что мы сидели там как в парнике, и только кончики носов у нас подмерзали, когда мы высовывали их наружу, чтобы принести дров или воды. Джафи залил булгур в котелке водой и начал варить его, помешивая, а в перерывах смешал составные части шоколадного пудинга и стал кипятить его в отдельном котелке, который вытащил из моего рюкзака. Еще он заварил свежего чаю. Потом достал две пары палочек, и ужин скоро у нас был готов, чему мы повеселились. Это был самый вкусный ужин всех времен. За оранжевым светом нашего костра виднелись громадные системы неисчислимых звезд — и отдельными огнями, и венериными подвесками, и млечными путями, несоизмеримыми с человеческим пониманием, все — холодные, голубые, серебряные, а наша пища и наш огонь были розовыми и славными. Как и предсказывал Джафи, во мне не было ни капли желания выпить, я совсем об этом забыл, мы забрались слишком высоко, поход — слишком трудный, воздух — слишком резким, его одного хватало, чтобы опьянить тебе пьяный зад. Это был грандиознейший ужин, пищу всегда лучше есть скорбными щепотками с кончиков палочек, не набрасываясь слишком жадно, почему дарвинский закон выживания и применим лучше всего к Китаю: если не знаешь, как пользоваться палочками для еды, а лезешь ими в семейный котел вместе с теми, кто знает, то протянешь ноги. Но все равно в конце я уже помогал себе пальцами.
После ужина Джафи прилежно взялся за чистку котелков проволочной теркой и заставил меня принести воды, что я и сделал, сходив и окунув банку, оставшуюся от наших предшественников, в сияющий звездный бассейн ручья, слепил по дороге снежок, и Джафи вымыл посуду в горячей воде.
— Я вообще-то обычно не мою кастрюли, а просто заворачиваю их в свой синий платок, потому что на самом деле разницы никакой нет… но боюсь, такую уловку не сильно-то оценят в том мыльном доме на Мэдисон-авеню, как их там, эта английская фирма «Урбер и Урбер», ну, я в натуре не я буду, черт бы меня побрал, если сейчас же не достану свою звездную карту и не посмотрю, что за расклад там сегодня ночью. Эту уймищу наверху невозможнее пересчитать, чем твои любимые сурангамные сутрии, парень. — Поэтому он вытащил карту звездного неба, немного ее повертел и изрек: — Сейчас ровно восемь сорок восемь.
— Откуда ты знаешь?
— Сириуса бы не было там, где он есть, если б сейчас не было восемь сорок восемь… Знаешь, что мне в тебе нравится, Рэй? ты открыл мне глаза на подлинный язык этой страны — на язык работяг, железнодорожников, лесорубов. Ты когда-нибудь слышал, как эти парни говорят?
— А то нет. Был у меня один мужик, водила на бензовозе — как-то ночью подобрал меня в Хьюстоне, Техас, сразу после полуночи, когда один пидар, хозяин мотеля, который назывался не как-нибудь, а очень уместно, дорогой ты мой, «Дэнди-Кортс», выставил меня и сказал: если не сможешь уехать, ладно, так уж и быть, возвращайся и ночуй у меня на полу, — поэтому я часик подождал на пустой дороге, и тут катит этот бензовоз, а за рулем — этот чероки, он сам мне так потом сказал, его звали Джонсон, или Элли Рейнольдс, или еще как-то там; так вот, как он разговаривал, начиная с такой вот речуги: «Ну, малец, я свалил из хижины моей мамашки, не успел ты еще унюхать, чем речка пахнет, и подался на запад, и там на нефтеразработках в Восточном Техасе доездился просто до чертиков,» — со всяческими шуточками и прибауточками, и в такт тому, как говорил, он жал на сцепление, дергал за всякие рычаги, и вся его махина вздрагивала, а он несся по шоссе на семидесяти милях в час, разогнавшись так, как катила его история — великолепно, вот что я называю поэзией.
— Во-во, я о том же. Послушал бы, как разговаривает старина Бёрни Байерс — вот уж говорит так говорит, — у нас в Скагите: вот, Рэй, куда тебе надо приехать.
— Ладно, приеду.
Джафи, стоя на коленях и всматриваясь в свою карту, слегка нагибался вперед, чтобы выглянуть из-под старых суковатых деревьев этой скалистой страны, и был похож со своей бороденкой и всеми делами, и с этой мощной бугристой стеной позади, на то видение, что было у меня однажды: видение древних китайских Учителей Дзэна где-то в лесной глуши. Он склонялся вперед, стоя на коленях, и смотрел вверх, словно держал в руках святую сутру. Вскоре он сходил к сугробу и возвратился с шоколадным пудингом, который теперь был холоден как лед и абсолютно вкусен — превыше всяческих слов. Мы весь его и слопали.
— Может, надо Морли оставить?
— А-а, он до утра не продержится — растает на солнышке.
Вот пламя перестало реветь, и от костра остались лишь красные угли, но большие — по шести футов в длину, ночь все больше и больше стала накладывать свой кристальный ледяной отпечаток, но с запахом дымящихся бревен это было так же вкусно, как и шоколадный пудинг. Я вышел прогуляться один к мелкому обледенелому ручейку, помедитировал, привалившись спиной к кому земли, а громадные стены гор по обеим сторонам нашей долины стояли молчаливыми массами. Слишком холодно, больше минуты не выдержать. Когда я вернулся, наш оранжевый костерок, отбрасывавший жар на камень, и Джафи, вглядывавшийся в небеса, стоя на коленях, и все это в десяти тысячах футов над скрежещущей суетой — все это было олицетворением мира и здравого смысла. У Джафи была еще одна сторона, изумлявшая меня: его гигантское и нежное чувство сострадания. Он всегда все отдавал, всегда осуществлял то, что буддисты называют Парамитой Даны, совершенствованием сострадания.
Теперь, когда я вернулся и присел к костру, он сказал:
— Ну, Смит, пора тебе иметь собственные четки, вот, возьми-ка. — И протянул мне коричневые деревянные четки, нанизанные на крепкую бечеву, черную и блестящую, выходившую из крупной бусины на конце красивой петелькой.
— Ой, как же ты можешь отдавать мне такую вещь, они ведь, наверное, из Японии, а?
— У меня еще черные есть. Смит, та молитва, которой ты меня сегодня научил, стоит гораздо больше этих четок, но все равно бери. — Через несколько минут он вычистил остатки шоколадного пудинга из котелка, но позаботился, чтобы мне досталось больше. Потом набросал веток на расчищенное место и расстелил поверх них пончо — но так, чтобы мой спальник оказался ближе к костру, чтобы мне уж точно не замерзнуть. Он никогда не забывал о милосердии. Он и меня, на самом деле, научил этой своей благотворительности, и через неделю я отдавал ему хорошие новые майки, которые нашел для него в «Гудвилле». Он тут же подарил мне пластиковую коробочку для пищи. Шутки ради я принес ему огромный цветок, который сорвал во дворе у Алвы. На следующий день он торжественно приволок мне букетик цветов, собранный на газонах Беркли. — И тенниски тоже можешь себе оставить, — сказал он. — У меня есть еще одна пара, старее, но пока держатся.