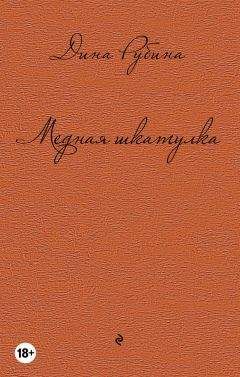Ознакомительная версия.
А на углу Дурова и Тополева стояло здание ГИНЦВЕТМЕТа – Государственного института цветных металлов. За высоким забором виднелся кирпичный ведомственный дом для специалистов – там жила интеллигенция. Дом был привилегированный, как бы отделенный от остального населения Тополева переулка. Например, Сонина семья жила в отдельной квартире. Но без телефона. Телефон был в коммуналке на втором этаже, туда маме и звонили; соседка Клавдия стучала ножом по трубе отопления, и мама ей отзывалась – под ребристой серебристой батареей всегда лежал наготове медный пестик. Клавдия степенно говорила в трубку:
– Минуточку! Сейчас она подойдет…
Эту квартиру – огромную, двухкомнатную – они получили в те времена, когда папа занимал должность замдиректора института по научной части. Мама говорила, что ученый он был талантливый, но несчастливый. По складу интеллекта – генератор идей. Изобретал процессы, опережающие возможности технологий лет на двадцать. До внедрения многих не дожил. В эпоху расцвета космополитизма однажды вечером домой к ним пришли истинные доброжелатели, и папе было предложено… В общем, эта тихая сдавленная речь в прихожей выглядела в маминой передаче примерно так: «Мы вас, Аркадий Наумыч, ценим и не хотим потерять. Пока под нами огонь не развели, уйдите по собственному желанию». Папа так и сделал: взял лабораторию. В детстве Соня не понимала, как это делается: «взять лабораторию». Представляла, как папа берет под мышку всех сотрудников, чертежные столы, приборы, целый коридор на втором этаже… и гордо уходит вдаль. Чепуха! А спросить у него самого возможности уже не было: папа умер, когда Соне было лет пять. Папа умер, но его семья – мама, Соня и сильно старший брат Леня – осталась жить в той же двухкомнатной квартире. И все осталось прежним: в большой комнате стоял круглый стол на уверенных ногах, всегда покрытый скатертью, которой мама очень гордилась – коричневого грубого бархата, с тонкой вышивкой темно-золотой нитью. На тяжелом рижском трельяже стояли две фарфоровые фигурки стройных девушек в сарафанах. Натирая мебель, домработница каждый раз ставила их на двадцать сантиметров правее, чем нравилось маме. И каждый раз мама молча их переставляла. Это продолжалось годами…
* * *
Пальчиков, Барашков, Самарский, Выползов – лет через пятьдесят имена всех этих переулков будут звучать для Сони далекой щемящей музыкой…
Кстати, музыку любили все, отовсюду неслись обрывки песен, маршей, оперных и опереточных арий, концерты по заявкам радиослушателей. Концерты устраивала и сама общественность во дворах. Дядя Леша, наборщик в типографии «Правда», брал свой зеленый перламутровый аккордеон и, положив на него седую голову, чуть ли не со слезами в выпученных за стеклами очков глазах выводил в самом верхнем регистре одно и то же – «По диким степям Забайкалья».
На второй этаж домсемя вела железная наружная лестница. Там усаживались все желающие, артисты наряжались кто во что горазд. Подружка Лидка влезала к себе в открытое окно, ставила на полную громкость пластинку, и концерт начинался: «Летите голуби, лети-и-и-те…»
У Лидки особенно красиво получались тягучие жалостливые песни, у нее было пронзительное сопрано:
Льется и льется,
Словно года,
В диких криницах
Чудо-вода…
Все были талантливы и постоянно воодушевлены. Вова Сулейманов, мальчик толстый, рыхлый, залюбленный мамой и старшими сестрами, складывал грудки до образования ложбинки, перетягивался мамкиным хохломским платком (платье до полу!), объявлял сам себя: «Выступает Маргарита Луговая!» – и запевал:
Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит.
Ей много свободы
И много простору…
Луч соо-о-о-о-лнца у чайки крыло серебрит…
Да какой там, к черту, Робертино! Не выдерживали даже взрослые: «Маргарите Луговой», чтобы не обижалась, давали посолировать пару куплетов, а затем вступал весь двор. Это было сверхмощно! И только пух тополиный взлетал и опадал в такт вздымавшимся грудям.
Стоит ли говорить, что все запросто хаживали друг к другу, помогали в большом и в малом, ссорились, мирились, выпивали, сплетничали, ибо знали друг о друге все самое сокровенное.
И уж если мы о сокровенном…
* * *
…Но сначала – про семью. После папиной смерти их трое осталось: мама, Соня и Леня, брат. Вернее, так: сначала Леня, а пото-о-о-ом уже Соня – на выдохе, как говаривала мама, «женской карьеры». Она любила повторять: от первого мужа у меня сын, от второго – дочь и инфаркт. Леня был невысоким, улыбчивым, с детства помешанным на бабочках. Странно, что при этом закончил он военно-морское училище в Ленинграде, после которого получил распределение на Север – Шпицберген, Новая Земля, Североморск… Так далеко от Тополева переулка! В Москве бывал в командировках, а в отпуск ездил ловить бабочек, какого-нибудь эндемика, что водится на единственном холме за некой маленькой армянской деревней. Однажды был арестован – в трусах и с сачком – в двух шагах от государственной границы. Оттуда связались с его командованием, и те сказали: «Не сомневайтесь, это наш сумасшедший в отпуске»… В Сонином детстве, приезжая в командировку, Леня (форма черная, с золотом, и кортик!) катал ее на лодке в парке ЦДСА и врал-пугал, что не умеет плавать.
Однажды – Соне было лет шесть – он взял ее в гости к известному энтомологу. Тот жил в двух огромных комнатах в бездонной коммуналке где-то на Патриарших, и все стены двух этих комнат от пола до потолка были зашиты стеллажами, на которых вплотную, ребрами, стояли плоские белые коробки, так что казалось: со всех сторон ты окружен глухой стеной. Хозяин по одной вынимал из строя совершенно одинаковые коробки с какими-то скучными капустницами, какие миллионами летали на даче, и Леня потрясенно ахал, вскрикивал, цокал языком…
Наконец брат вспомнил о ней, сказал: «Ах, да, у меня тут сестренка. Не могли бы вы ей что-то показать?»
Тот досадливо пожал плечами, буркнул: «Ну, что ж… вот, пожалуй, это?»
Подошел к противоположной стене, завешенной длинным белым занавесом, отдернул его…
Там прямо на стене висели застекленные коробки с дивным, ошеломительным, дух захватывающим миром! Вероятно, это были не бабочки, такими бабочки быть просто не могли: радужные веера, индийская мечта, волшебный фонарь, цветные россыпи драгоценных камней, – вот что это было! Соня как вкопанная стояла с застрявшим в горле вздохом и смотрела, смотрела, глаз не могла оторвать.
Минут через пять, почти не глядя, хозяин машинально задернул занавес, и они с Леней вернулись к своим скучным капустницам. И долго еще Леня продолжал рассматривать коробки с унылыми белыми капустницами, восхищенно охая и качая головой.
2Персонажи Тополева переулка за годы после его исчезновения не изгладились из Сониной памяти ничуть, и даже ничуть не потускнели. Они вспоминались в некой перспективе – бесконечный пульсирующий клип, смонтированный из вспышек памяти, пронизанного солнцем тополиного пуха и развесистой лепнины алебастровых июльских облаков.
А на заднем плане – утренний неспешный караван: слониха Пунчи с хоботом, закрученным вверх, как ручка чайника, и верблюд Ранчо с угрюмо-неподкупным лицом. Взрослея, старея, никогда уже теперь не умирая – теперь, когда стремительно преобразились все прежние сущности и возникли новые, невиданные и немыслимые в ее детстве и юности, – персонажи Сониного детства менялись, в то же время оставаясь самими собой.
Например, Лидка-вруха, главная Сонина подружка из домсемя, так и осталась тощей дворовой девчонкой, уверявшей, что папы у нее нет, потому что стоит он в карауле у Мавзолея, и одновременно – молодой женщиной с младенцем на сгибе полной белой руки. Ибо Лидка выросла, стала пригожей, вышла замуж за мелкого сотрудника то ли МИДа, то ли КГБ – что-то из низшего звена, – которого звали замшелым именем Полуэкт. У них все мальчики в роду должны были называться Полуэктами. Лидкин муж, таким образом, звался Полуэкт Полуэктович, словно какой-нибудь купец из пьесы Островского. И когда у Лидки родился сын, он своим должностным порядком тоже назван был Полуэктом – против семейной традиции не попрешь. А вскоре Лидкиного мужа командировали в Париж – то ли охранником, то ли шофером, то ли топтуном каким при посольстве, и Лидка, покачивая мальчика на сгибе полного локтя, нежно сдувая ресничку с его округлой щеки, вдохновенно твердила, как это здорово, что именно Париж, потому что в Париже Полуэктик будет – Поль!
Синдоровские, семья гордых поляков – все высокие, поджарые, надменные! – жили в доме ГИНЦВЕТМЕТа. У них и прислуга Нюра была такая же поджарая и высокая. Клавдия, которая знала всё обо всех, уверяла, что «сам» каждый день берет на работу свежий, накрахмаленный Нюрой носовой платок, и если тот не выглажен безупречно, молча сминает и швыряет в грязное…
Ознакомительная версия.