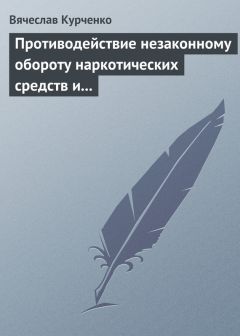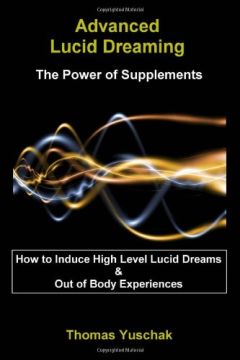Какое это было, однако, унижение, весь вечер сидеть за столом и слушать рассказы Димы о других странах, о жизни в Европе и не иметь возможности сказать всем, что они знакомы! Так думала Карина, кусая губы и бросая нервные взгляды то на его жену, то на него самого – ах, как она хотела, как старалась делать все, что угодно, крутить локоны, рвать салфетку, но только не глядеть на него! А все ж-таки не выходило! Он, как магнит, общительный, обаятельный, притягивал взгляд. И тут Карина сказала себе: какое в том унижение, что он не признал ее? Он был женат, пусть так! Но и она не осталась в старых девах, более того, у нее были дети! Так почему он должен был жалеть ее? Ну нет!
– Это ваша дочь? – спросила она тихо у Насти, перестав слушать Диму.
Худая, еще более стеснительная девочка лет четырнадцати была отдаленно похожа на невзрачную Настю с рыже-коричневыми с проседью волосами, жидкими, стянутыми в хвостик. Девочка была вся в веснушках, а косы ее – медными. Как и Настена, она совсем не умела одеваться, на них обеих были самые простые джинсы и бесформенные футболки.
– Ульяна – моя племянница. – Настя шепнула Карине на ухо так, чтобы девочка ничего не слышала. – Ее мать покончила с собой, а отец давно спился. Мы с Димой воспитываем ее как свою дочь.
Это все объясняло: по всем подсчетам Дима не успел бы обзавестись столь взрослой дочерью после расставания с Кариной.
– А вот Матрена – наша родная дочь.
– Что-то не помню, мы не гуляли на вашей свадьбе? – Осторожно спросила Карина. Настя во всем казалась ей собственной противоположностью: она была некрасива, но добра, сдержанна, учтива… а главное, она производила впечатление человека, который во всем была правилен, во всем задавал тон, во всем был образчиком для других. Должно быть, поэтому-то Дима и полюбил ее!
– Так мы не праздновали, просто расписались, и все. Я была тогда на последнем месяце, не до того было.
И тут неприятный осадок, смятение, чувство странного унижения словно рукой сняло, это случилось так мгновенно, так легко, что Карина не удержалась и бросила долгий испытующий взгляд на Диму, он вдруг поймал его, и в этот самый миг, в миг пересечения этих странных, многоговорящих взоров, он сбился, запнулся на полуслове, а она почувствовала странное жжение в груди. Стало быть, он женился в последний час, когда Настя готова была родить! И случилось это много позднее их собственной свадьбы.
– Как и говорю… проблем полно везде, и в Германии многие знакомые жалуются, что хотели бы вернуться на Родину, да поздно жизнь менять. И у нас такая коррупция, мама не горюй. Теперь появился хоть шанс уйти от этого бардака. Пусть заработаем меньше, зато все, что заработаем – все будет наше, не надо будет делиться с киевскими олигархами.
Речи Дмитрия успокаивающе действовали на Лопатиных, и они кивали головами, соглашаясь с ним.
– Вот, Карина, Парфен, человек повидал мир, а все о том же толкует, что и мы. – Вдруг обратилась к ним Вера Александровна. – Рая – нет на земле!
– Это точно! – Сказав это, Дима вдруг вновь бросил взгляд на Карину, и она почувствовала, как запылали горячим румянцем ее полные щеки.
– Можно что угодно говорить про новую власть в Донецке. – Сказала Вера Александровна. Она сначала робела перед молодым и предприимчивым Шишкиным, а затем заговорила решительно. – И что здания администрации наши захватывают с помощью российских силовиков, и что на митинги сходится далеко не весь город, и воля народа при этом учитывается лишь частично, но как быть с референдумом, как свести на нет его значение? Ведь явка такая, как ни в одной демократической стране мира – 74 процента! И 90 процентов людей проголосовали за отделение. Как с этим-то быть? Как закрыть глаза на правду?
– А никак не закрыть, Вера Александровна. – Вторил ей Семен Владимирович. – С мнением людей надо считаться, а не как в девяносто четвертом…
Митя заерзал на коленях у Парфена, захныкал, и Карина, как бы ни хотела остаться в гостиной, чтобы смотреть и слушать, и внимать каждому слову гостя, взяла сына на руки и пошла в спальню. Вскоре следом за ней побежали и девочки, и тогда-то Настя хотела было встать, но Дима предупредил ее:
– Отдохни, я послежу за Матреной.
В комнате стоял полумрак: Карина забыла откинуть шторы после дневного сна детей, и теперь девочки подбежали к Мите, играющему с посудой, выхватили у него чашки и чайник, уселись за детский столик и стали играть в собственное чаепитие.
Карина замерла, ей даже показалось, что она перестала дышать: столь внезапно стало появление Димы в спальне, где тусклый свет едва пробивался сквозь плотные шторы, смягчая черты их беспокойных лиц. Им бы сказать друг другу хоть что-то, но они оба молчали и не глядели друг на друга, и длилось это так долго, что самая эта тишина стала невыносимой, и Карине захотелось разорвать ее любым способом.
– Стало быть, Дмитрий Шишкин. – Сказала она. – Не Митрофан, не Митяй. Дмитрий.
– Митрофан звучало как-то не солидно. Я ведь бизнесом занялся. Пришлось сменить имя, и всех убедить называть меня по-другому.
– Я даже не поняла, что вы родственники. Просто узнала, что брат Парфена в немецкой тюрьме и не смог приехать на свадьбу. Ты хоть бы намекнул. Или ты тоже не знал?
Дети играли, не подозревая, о чем они говорили, о том, какая драма крылась в их полусловах, полу-улыбках, полунамеках, полувзглядах.
– Конечно, знал. Поэтому и не приехал. В тюрьме я сидел, но не в тот раз и не в тот год, просто сказал всем, чтобы точно никто не обиделся, а сам провел эти дни в Берлине.
Казалось, он устал стоять и потому сел на кровать рядом с Кариной. Но вдруг Дима сделал движение навстречу к ней, а затем остановился. Что он намеревался сделать? Обнять ее? Взять за руку? Поцеловать? Карина застыла, не сводя с него широко распахнутых испуганных глаз. По этому неоконченному телодвижению, по его властному и одновременно робкому (как подобное могло сочетаться?) взгляду она поняла, что Дима, быть может, еще не был объят всепоглощающей страстью, еще не любил ее, но уже готов был поддаться страсти, готов был вновь провалиться в мятежные и бездонные пучины ее. Как чуден тайный язык любви: бессловесный, мучительно невыразимый, сколь выразительным и ясным становится он, лишь только оба вдруг заговорят на нем!
В чем таилось признание и одновременно обещание принадлежать ей и только ей? Был ли это взгляд, на несколько минут так преобразившийся, ставший глубоким и полным страдания? Был ли это язык тела, мускул на лице его? Карина не знала ответа на этот вопрос! Знала лишь то, что он уже любил ее – вот так просто – с одной только встречи, знала, что с каждым днем Дима будет любить еще больше, и стоит им встретиться только еще раз, и тогда он отдаст ей свое сердце вновь – только теперь уже навсегда!
Не оттого ли – она чувствовала – во взгляде ее на него теперь было столько власти, не оттого ли чуть прищуренные глаза ее смеялись, а на губах застыла таинственная полуулыбка?
Вот они с Настеной, Матреной и Ульяной уже покидали их, вот они стояли в пороге, и Дима все опускал глаза, а когда вдруг поднимал, взгляд его неизбежно скользил по родным и вдруг прыгал на нее, на ее лицо, обрамленное густыми светлыми локонами, и всякий раз она как будто набрасывала на него новый виток оков, все больше привязывая его к себе. Вот уж истинно: любовь сотворяется взглядами.
Он ушел, двери были заперты, Карина убирала со стола, помогая свекрови – и все думала: как они умудрились однажды все так усложнить, как додумались до того, чтобы погубить свои отношения из-за глупых и пустых ссор, когда в любви все было так безбрежно просто?.. В мыслях своих она не сравнивала Диму с Парфеном, не спрашивала себя о том, кто был лучше, кто умнее, кто красивее, кто богаче, не думала о том, кто был отцом ее детям, а кто – чужим, как и он ни в коем случае не сравнивал ее с Настей, не спрашивал, изменилась ли она за прошедшие годы.
Все это было неважно, все невесомо, как и все самые разумные доводы против того, чтобы теперь влюбляться. Карина знала только одно: Дима влек ее, и она притягивала его – знала, что при одном взгляде на него она живет, дышит, чувствует так, как никогда прежде: сгорая изнутри, и это неистовое, всепоглощающее пламя… не было ли смыслом всего? Она закрывала веки, образ Димы вспыхивала перед глазами, и от одного только образа его сильного лица с короткой бородой в каждой клеточке тела разливалось ни с чем не сравнимое, восхитительное блаженство. Против этого не было оружия или лекарства, против этого не существовало доводов, она была бессильна что-либо изменить.