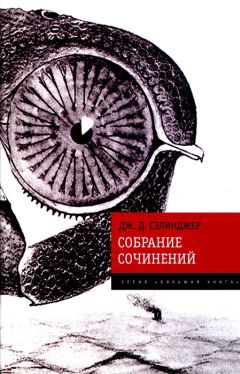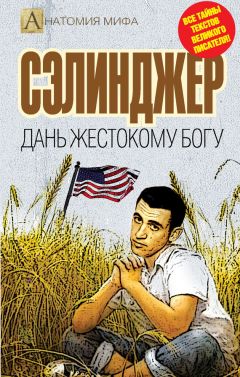— Да все равно уже темно, — по сути прекратив игру.
От этого последнего маленького pentimento,[364] или чем бы оно там ни было, меня буквально от макушки до пят прошибло потом. Хочется сигарету, но в пачке пусто, а из кресла я вставать не готов. Ох господи, что за возвышенное ремесло. Сколь хорошо известен мне читатель? Сколько я могу поведать ему, чтобы не смутить его и самому не опростоволоситься? Вот что я сказать могу: для нас всех в уме его приуготовлено место. Еще минуту назад свое я видел четырежды в жизни. Сейчас — пятый. Растянусь-ка я на полчасика на полу. Прошу меня извинить.
* * *
По мне, так это подозрительно звучит, как театральная программка, но после вот этого последнего — театрального же — абзаца я чувствую, что сейчас огребу. Время — три часа спустя. Я заснул на полу. (Я снова вполне в себе, дорогая баронесса. Батюшки, что ж вы могли обо мне подумать? Вы же позволите, я вас умоляю, позвонить, дабы принесли довольно интересную бутылочку вина. С моих собственных маленьких виноградников, и мне кажется, вам бы не помешало…) Мне бы хотелось объявить — как можно кратче, — что чем бы конкретно ни было то, что вызвало Пертурбацию на странице три часа назад, я не был — ни тогда, ни сейчас, ни когда — ни в малейшей степени опьянен своими силами (моими собственными силенками, дорогая баронесса) почти абсолютной памяти. В тот миг, когда я стал — или сам себя сделал — моросливой развалиной, я не вполне обращал внимание на то, что сказал Симор, — да вообще-то и на самого Симора тоже. По сути меня поразило — обездвижило, пожалуй, — внезапное осознание того, что Симор — это мой велосипед «давега». Почти всю жизнь я ждал хоть малейшей склонности, не говоря уже о требуемом доведении оной до завершения, отдать кому-нибудь свой велосипед «давега». Сей же миг, само собой, поясняю:
Когда нам с Симором было пятнадцать и тринадцать, однажды вечером мы вышли из своей комнаты послушать по радио Ступнэггла и Бадда,[365] по-моему, и, войдя в гостиную, оказались в самом центре великой и тревожно сдавленной суматохи. Присутствовали всего трое: наш отец, наша мать и наш брат Уэйкер, — но у меня сложилось ощущение, что из хорошо замаскированных наблюдательных пунктов подслушивал и малый народец. Лес довольно ужасно побагровел, Бесси стиснула губы так, что они почти совсем пропали, а братец Уэйкер — которому в тот миг, по моим расчетам, было почти ровно девять лет и четырнадцать часов, — стоял у рояля в пижаме и босиком, и по лицу его струились слезы. Первым моим порывом в подобной семейной ситуации было развернуться и двинуть подальше в горы, но поскольку Симор, судя по всему, отнюдь не был готов уходить, я тоже решил задержаться. Лес с отчасти подавляемой пылкостью тут же выложил дело на судебное рассмотрение Симору. Утром, как мы уже знали, Уэйкеру и Уолту подарили пару похожих и красивых, сильно-не-по-карману подарков на день рождения: велосипеды в красно-белую полоску, с двойной рамой и колесом двадцать шесть дюймов, ровно те же транспортные средства, что стояли в витрине спортивного магазина «Давега» на Восемьдесят шестой между Лексингтон и Третьей, — двойняшки этими великами подчеркнуто восхищались почти весь минувший год. Минут за десять до того, как мы с Симором вышли из спальни, Лес выяснил, что велосипед Уэйкера не поставлен на хранение в подвал нашего дома рядом с велосипедом Уолта. В тот день в Центральном парке Уэйкер его отдал. К нему подошел незнакомый мальчик («какой-то шнук, он его раньше в жизни не видел») и попросил у него велосипед, и Уэйкер отдал. Ни Лес, ни Бесси, само собой, не забыли об «очень славных щедрых намерениях» Уэйкера, но оба рассматривали подробности сделки сквозь призму собственной нерушимой логики. По сути, они полагали, что Уэйкеру следовало — и это соображение Лес повторил с большой горячностью Симору — хорошенько и долго покатать мальчика на велосипеде. Тут, всхлипывая, встрял Уэйкер. Мальчику не хотелось хорошенько и долго кататься, ему хотелось велосипед. У него такого никогда не было, у этого мальчика; а ему всегда хотелось. Я взглянул на Симора. Он заводился. Вид у него постепенно становился благожелательный, но сообщал наблюдателю абсолютную неспособность объекта разрешить подобного сорта трудный спор, — и по своему опыту я знал, что мир у нас в гостиной будет восстановлен, хоть и каким-то чудом. («Ведь мудрый каждый раз добивается успеха, но, приступая к чему-либо, полон нерешительности». — Книга XXVI, «Чжуан-цзы».)[366] Не стану описывать в подробностях (в кои-то веки), как Симор — и это наверняка можно выразить иначе, только я не знаю, как — наобум ляпнул что-то насчет самой сути разногласий таким манером, что несколько минут спустя три воюющие стороны по-настоящему расцеловались и примирились. Поистине тут я имел что сказать об отъявленно личном, и, сдается мне, я это уже донес.
То, что Симор мне передал — вернее, как меня наставил — в тот вечер 1927 года, когда мы играли в бордюрные шарики, мне кажется полезным и важным, и я думаю, на этом определенно стоит ненадолго остановиться. Хотя это и может несколько шокировать, с моей точки зрения, в данный промежуток времени нет почти ничего ценнее и значимее того факта, что сорокалетнему пердуну, брату Симора, наконец-то подарили собственный велосипед «давега», который можно отдать, лучше всего — первому, кто об этом попросит. Невольно я задаюсь вопросом — раздумываю, — вполне ли корректно перейти от одной псевдометафизической частности, сколь бы крохотной или же частной она ни была, к другой, сколь бы ни была она здоровой или же общей. Иными словами — не затягивая в начале, ни капельки не филоня в том выспреннем стиле, к коему я привык. Тем не менее, вот: когда Симор наставлял меня с бордюра на другой стороне улицы, чтобы я прекратил целиться своим шариком в шарик Айры Янкауэра, — а Симору было десять, не забывайте, пожалуйста, — я убежден, что инстинктивно он подводил к чему-то весьма духовно близкому тем наставленьям, что давал бы в Японии мастер-лучник, запрещая своенравному ученику нацеливать стрелы в мишень; то есть, когда учитель стрельбы из лука дозволял бы, так сказать, Целиться, не целясь. Хотя я все же гораздо больше предпочел бы не включать в этот свой недомерочный трактат и дзэнскую стрельбу из лука, и дзэн вообще — отчасти, безусловно, потому, что для разборчивого слуха дзэн постепенно становится довольно неприличным, сектантским словом, причем сие в огромной степени, хоть и поверхностно, оправданно. (Говорю «поверхностно», ибо чистый дзэн наверняка переживет своих западных поборников, кто, по большей части вроде бы опровергает его почти-что-доктрину Отстраненности приглашением к духовной безучастности, даже черствости, — и кто явно не усомнится повергнуть Будду, не отрастив сперва золотой кулак. Чистый дзэн, стоит ли добавлять — а я думаю, что стоит, при моей скорости, — останется и после того, как в лету канут такие позеры, как я.) Наиглавнейшим же образом, мне бы не хотелось сравнивать совет Симора насчет шариков с дзэнской стрельбой из лука хотя бы потому, что я — ни дзэнский лучник, ни дзэн-буддист, ни, тем паче, знаток дзэна. (Имею ли я право тут заявить, что как Симоровы, так и мои корни в восточной философии — если позволено будет назвать их «корнями» — произросли — произрастают — из Нового и Ветхого Заветов, Адвайта-Веданты[367] и классического даосизма? Я склонен расценивать себя, если здесь вообще применима такая приятственность, как восточное наименование, йогином кармы четвертого разряда, быть может — с легкой добавкой джнана-йоги для вкуса.[368] Меня до крайности притягивает дзэнская классика, мне хватает наглости в колледже читать о ней и литературе махаяны лекции раз в неделю по вечерам, но сама жизнь моя — не дзэнская дальше некуда, и та малость дзэнского опыта, которую мне удалось постичь — этот глагол я выбираю тщательно, — есть побочный продукт следования моему собственному, довольно естественному пути крайней недзэнскости. По преимуществу — потому, что сам Симор буквально умолил меня делать так, а я никогда не замечал, что он в таких вещах ошибается.) К счастью для себя и, вероятно, для всех, я не уверен, что дзэн здесь так уж необходим. Метод кидания шариков, который Симор, по чистой интуиции, мне рекомендовал, можно небезосновательно и не по-восточному, я бы сказал, соотнести с изящным искусством отправлять сигаретный бычок в очень маленькую мусорную корзину через всю комнату щелчком. Искусство, я убежден, коим в совершенстве владеет большинство мужчин-курильщиков, лишь когда им либо глубоко плевать, попадет бычок в корзину или нет, либо в комнате не остается очевидца, включая, вполне себе выражаясь фигурально, самого бычкомета. Я сейчас очень прилежно постараюсь не разжевывать эту иллюстрацию, сколь бы восхитительной ее ни полагал, однако считаю как никогда уместным прибавить — здесь я на минутку возвращаюсь к бордюрным шарикам, — что после того, как сам Симор кидал шарик, он обычно ликовал, заслышав ответный щелчок стекла о стекло, но, похоже, сам толком никогда не понимал, чей именно триумфальный щелчок раздался. Больше того: почти неизменно кому-нибудь приходилось подбирать выигранный Симором шарик и ему вручать.