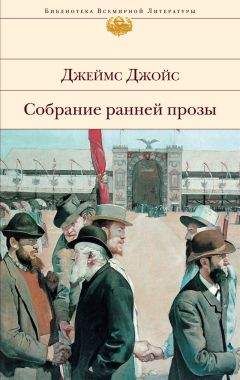— И по-твоему, значит, лучше тут работать в деревне, чем в таком вот богатом городе? Я знаю одного парня…
— У Хайнса мозгов просто не хватает. Он всегда брал зубрежкой, одной зубрежкой.
— Да бросьте его. В большом торговом городе отличные деньги можно делать.
— Все зависит от практики.
— Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio[134].
Их голоса долетали до его слуха как бы издалека, прерывистыми пульсациями. Она собиралась уходить вместе с подругами.
Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. Девушки постукивали каблучками, стоя на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, поглядывая на облака, искусно подставляя зонтики под редкие последние капли, снова закрывая их и с кокетливой скромностью подбирая юбки.
Не слишком ли он строго судил ее? А что если ее жизнь — простые четки с бусинами часов, жизнь простая и непонятная как жизнь птицы, веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее простое и своенравное, как у птицы?
* * *
На рассвете он проснулся. Какая сладостная музыка! Вся душа его была омыта росой. По спящему простертому телу скользили прохладные волны бледного света. Он лежал без движения, а душа словно покачивалась на прохладных волнах, внимая тихой сладостной музыке. Разум медленно пробуждался к пульсирующему утреннему познанию, к вдохновениям утра. Все существо его наполнял дух чистый, словно чистейшая вода, сладостный как роса, плывущий как музыка. Но сколь неосязаемо он в него проникал, сколь бесстрастно, словно был дыханием самих серафимов! Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный рассветный час, когда пробуждается безумие, и странные растения раскрываются к свету, и вылетают беззвучно мотыльки.
Завороженность сердца! Ночь была завороженной. Во сне или в видении он познал экстаз серафической жизни. Был ли это лишь один миг завороженности — или же долгие часы — дни — годы — века?
Миг вдохновения, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон, от массы туманных обстоятельств того, что произошло или могло бы произойти. Миг сверкнул, будто вспышка света, и облачки этого тумана обстоятельств мягко заслоняли теперь оставленное им послесвечение, складываясь в некую неясную форму. О! В девственном лоне воображения Слово делалось плотью. Архангел Гавриил сошел в обитель Девы. В духе его, что был посещен белым пламенем, сгущалось послесвечение, сгущалось в розовый знойный свет. Этот розовый знойный свет — ее непостижимое и своенравное сердце, непостижимое ни одному мужчине ни в прошлом, ни в будущем, своенравным же бывшее прежде начала мира — и манимые этою знойно светящейся розой, сонмы серафимов и ангелов низвергались с небес.
Не истомил ли тебя знойный путь?
Ангелы пали от чар твоих.
Завороженные дни позабудь.
Стихи пробивались из глубины сознания к губам, и, бормоча их, он чувствовал, как сквозь них пробивается ритм вилланеллы. Светящаяся роза испускала лучи — рифмы: путь, позабудь, окунуть, прильнуть. Лучи воспламеняли мир, сжигали сердца ангелов и людей: лучи розы, что была ее своенравным сердцем.
Стоит манящему взгляду блеснуть,
Страстный огонь уж в сердце проник.
Не истомил ли тебя знойный путь?
А дальше? Ритм замер — замолк — снова начал пульсировать. Что дальше? Дым фимиама, благовонный дым возносится с алтаря мира.
Дым благовоний отрадно вдохнуть,
Звучной хвалы отовсюду клик.
Завороженные дни позабудь.
Дым курений восходит со всей земли, от океанов, окутанных испарениями, это фимиамы воздаваемой ей хвалы. Земля — будто кадило, курящееся, качающееся, колеблющееся — будто шар благовоний — эллипсоидальный шарик. Ритм замер внезапно — вопль сердца оборвался. Губы принялись снова и снова вышептывать первую строфу — потом, путаясь, подбирали какие-то полустишия, запинались, сбивались — смолкли. Вопль сердца оборвался.
Дымчатый безветренный час миновал, и за голыми стеклами окна занимался утренний свет. Далеко-далеко слабо ударил колокол. Чирикнула птичка, другая, третья. Потом колокол и птицы смолкли. Повсюду, на запад и на восток, разливался тусклый белесый свет, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце.
Боясь потерять, он быстро приподнялся на локте, отыскивая бумагу и карандаш. На столе не было ничего, только глубокая тарелка с остатками риса от его ужина да подсвечник с потеками свечного сала и бумажным кружком в свежих подпалинах. Устало он протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшей там куртки. Пальцы нащупали карандаш, потом пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, выложил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать строфы вилланеллы мелкими четкими буковками на грубом картоне.
Записав их, он откинулся на комковатую подушку, вновь начал их вышептывать. Комки сбившихся перьев под головой вызвали воспоминание о комках свалявшегося конского волоса в сиденье дивана у ней в гостиной, где он обычно сидел, с улыбкой или серьезным видом, спрашивая себя, зачем он сюда явился, недовольный и ею и собой, удручаемый литографией Святого Сердца над незанятым буфетом. Он видел, как она подходит к нему во время паузы в разговоре, просит спеть что-нибудь из его таких интересных песен. Видел, как он садится за старое пианино, перебирает пожелтевшие клавиши и на фоне возобновившейся беседы поет для девушки, что стоит у камина, какую-нибудь изящную песню Елизаветинцев, нежно-печальную жалобу разлуки, песнь победы при Азенкуре, радостную мелодию «Зеленые рукава». Пока он поет, а она слушает или делает вид, сердце его спокойно, но, когда затейливые старинные песни кончаются и он снова слышит разговоры в гостиной, ему вспоминается его собственный сарказм: дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто по имени.
В отдельные минуты ее глаза, казалось, уже готовы были довериться ему, но он ждал напрасно. Сейчас она проносилась в его памяти в легком танце, как в тот вечер на карнавале, в развевающемся белом платье, с веткой белых цветов в волосах. Танцуя в хороводе, она приближалась к нему, приблизилась, глаза смотрели чуть в сторону, на щеках легкий румянец. Хоровод разомкнулся, и на мгновение ее ручка, словно какая-то изящная покупка, оказалась в его руке.
— Вас так редко сейчас увидишь.
— Да, я от природы монах.
— Боюсь, что вы еретик.
— Вас это очень пугает?
Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движениям, и когда она попадала в полосу тени, румянец на щеках казался ярче.
Монах! Его собственный образ предстал перед ним: осквернитель обители, еретик-францисканец, желающий и не желающий служить Богу, плетущий, как Герардино да Борго Сан-Доннино, тонкую сеть софизмов, нашептывающий ей на ухо.
Нет, это не его образ. Скорей, это образ молодого священника, с которым он видел ее последний раз, когда она на него поглядывала глазами голубки, теребя страницы ирландского разговорника.
— Да-да, дамы к нам тоже начинают ходить. Я вижу это каждый день. Дамы с нами. Они лучшие союзницы ирландского языка.
— А церковь, отец Моран?
— Церковь тоже. Она тоже сближается. Работа идет и там, насчет церкви не беспокойтесь.
Тьфу! Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно, что не поклонился ей на лестнице в библиотеке. Правильно, что оставил ее кокетничать с этим своим священником, заигрывать с церковью, этой судомойкой христианства.
Грубый гнев изгнал из его души последние остатки экстаза и, разом разбив ее нежный образ, расшвырял во все стороны осколки. Со всех сторон в памяти всплывали уродливые отражения ее образа: цветочница в отрепьях, с влажными жесткими волосами и дерзким лицом, что говорила про его подружку и упрашивала купить букетик; служанка из соседнего дома, которая, гремя посудой, распевала протяжно, как поют в деревнях, первые куплеты «Средь гор и озер Килларни»; девушка, что рассмеялась, увидев, как он споткнулся, зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у Корк-хилла; девушка с маленьким пухлым ротиком, привлекшим его, — она выходила с кондитерской фабрики братьев Джекобс и, заметив его взгляд, через плечо крикнула ему:
— Ну как, бровь дугой, лохматый, я те приглянулась?
Однако он чувствовал, что и сам этот гнев его был тоже формой поклонения ей, как бы ни удалось ему унизить и осмеять ее образ. Он вышел тогда из класса с презрением, но оно не было вполне искренним, он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Бродя по улицам в тот день, он твердил себе с горечью, что она — воплощенье женской природы своей страны, душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию самой себя в темноте, тайне и одиночестве, душа, что, проведя недолгое время — без любви, без греха — с безликим возлюбленным, затем отправляется вышептать свои невинные проступки в зарешеченное ухо священника. Его гнев против нее нашел себе выход в грубых насмешках над ее ухажером, чье имя, голос, лицо оскорбляли его обманутую гордость: осутаненный мужик, один брат у него — дублинский полисмен, другой — на кухне в кабаке прислуживает в Мойколлене. И это ему она откроет робкую наготу своей души, тому, кто обучен всего-навсего отправлять обряды, а не ему, служителю бессмертного воображения, претворяющему насущный хлеб опыта в сияющую плоть вечно живой жизни.