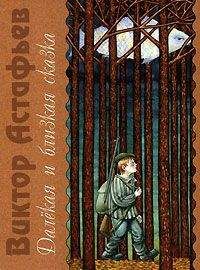Ребята нагребли мешок картошек и утащили его с собою, а я, ополоснувшись в бане, сидел в боковушке, усталый, разбитый, ждал Васю, чтоб потолковать с ним и распрощаться. Да не дождался, уснул, и сколько проспал, не помню, как услышал перебранку за перегородкой:
— Я от ребенка не откажусь, хоть он и Гешкин…
— Да-а, не откажешься! — прохныкала хозяйка. — Кобель и кобель…
— Тишь ты! Услышит! Он у нас…
— Рвань! Шпаны понавел… Еще сопрут чё…
— Они тебе огород убрали, а ты? — И Вася, как бы обессилев, вздохнул: — Как бы тебя самуе не сперли!.. — Хозяйка заширкала носом, но, словно не слыша бабьего хныканья, дядя мой веско добавил: — А обзывать не смей! Его и без тебя…
Они еще о чем-то говорили, тише, сморенней. А я, растроганный дядиными словами, снова начал было погружаться в усталый сон, как послышалась возня за стенкой: «Дерутся!» — вскинулся я всполошенно и по привычке, нажитой в удалой нашей семье, хотел было уже броситься разнимать людей, но шум за стенкой обрел умиротворенные черты — слышались шепот, смешки. «Да они же!..» — осенило меня.
То-то я не мог отгадать, где Вася спит? Почему нет нигде его постели? Не я ли оттяпал у него койку? А тут вон оно что! Идет ожесточенная война. Муж на фронте кровь проливает, а Михрютка-лярва срам в тылу творит! «И наш гусь хорош. С женой фронтовика! На его кровати!..»
Возмущенный до глубины души, я хотел сей же момент сойти с квартиры и ночевать на вокзале. Но вокзал на станции Енисей маленький, забитый до потолка утекающим от войны народом, на улице студено, темно и страшно, убийства начались, слышал я, и решил подождать до утра. Но утром проспал и дядю, и хозяйку, и занятия в ФЗО.
Без спроса и без прощания, не поблагодарив моих благодетелей за приют и хоть слабенькую кормежку, уйти, считал я неловко, и живот у меня с картошек совсем расстроился, и общежитие в ФЗО еще не достроено, не спать же вповалку в красном уголке служебного корпуса, вместе с бездомной братвой, когда есть угол, да еще за теплой печкой.
* * * *Словом, я подзадержался в поселке Базаиха, хотя презирал в душе и дядю, и хозяйку, и себя. Вася не замечал моего к нему охладевшего отношения, хозяйка, после того, как я вымыл в доме пол, побелил печку и нарубил капусты для засолки, накормила меня жареной картошкой с мясом и разрешила брать из кадки соленые огурцы, которые я быстренько и перетаскал братьям фэзэошникам, все больше удивлявшимся скупости, бездушию хозяйки и моему такому долгому терпению. Я, по их мнению, давно должен был перетаскать и продать на базаре картошку, так как она по существу наша, и на вырученные деньги купить себе одежонку, чтоб не сверкать «очками» заплат на заду штанов.
Пока я склонялся к мысли так и сделать, достроили общежитие и вот-вот должны были расселять по комнатам. С облегчением сообщил я об этом дяде, идя с занятий и перехватив его на пути с работы.
От дока до дома Михрютки-лярвы путь недалекий, с версту, не более, но он у нас получился такой длинный и содержательный, что я и по сей день его забыть не могу.
Дядю моего беспрестанно останавливали какие-то люди, здоровались, хлопая по плечу, говорили скабрезности, на всю улицу разносился бодрый, жеребячий хохот. Девицы шмыгали мимо дяди, краснея под его разящим взглядом, либо вскидывали руку, кричали приветствия. Иные, раскинув руки, шли на него, и он понарошке увиливал вправо, влево и, как бы запнувшись, рушился в объятия, лез куда попало рукой. Мне было стыдно, завидно, только любопытство и злорадное чувство насчет Михрютки-лярвы утешали меня — хнычет, ждет небось постояльца, а он резвится. Словно желая меня добить, дядя свернул в доковскую столовую, в центральную! Столовая, по всем видам, была закрыта, но Вася завернул за угол, провел меня меж бочек, ящиков, поленниц, мимо злой собаки, в какую-то хитрую дверь и когда ее дернул — опахнуло меня густым паром, спертым духом преющего дерева, гнилых овощей, прокислой капусты, соленых грибов, чего-то тухлого, порченого. Стулья, лавки и столы были опрокинуты на одну сторону зала, вторая половина толсто завалена желтыми, чистыми, свежопахнувшими опилками. Уборщица толкала опилки пехалом, будто грязный весенний сугроб, за нею, махая метлой, кашляя и матерясь, волокся пьяный мужичонка, будто вел прокос по широкому полю, пахнущему обувью, мочой, нечистотами.
Поздоровавшись с уборщицей, с мужичонкой, Вася углубился в полутёмный коридорчик, заставленный бочками, мешками, ящиками с очистками. Боясь отстать, я спешил за ним, и, поскольку никаких тайных ходов общепита не знал, ушиб колено, порвал рукав телогрейки о гвоздь. Впереди сгущались мрак и запахи, нарастало бряканье посуды, стук половников, ножей, слышался женский переклик, будто в лесу, и вдруг мы оказались на кухне, догадался я, потому что перед нами китайской стеной встал бок кирпичной печи. На печке той, под потолком, в застиранном колпаке, в мокром фартуке сидела пышногрудая девка, совала швабру куда-то вниз, в пары преисподней, и болтала ею — моет котел, догадался я.
— Валюха, приветик! — крикнул ей Вася.
Заблажив: «Ой, кто к нам пришел!» — девка рухнула с печи, норовя попасть в объятия Васи, да промазала. Оборонясь от Валюхи, Вася пятился, обнажая золото зубов:
— Костюм испачкаешь! Костюм!
Но Валюха изловчилась, сгребла моего дядю и понесла в беремени:
— Кто к нам пришел-то! Кто прише-ол! — вопила она, будто несла на руках балованного крестника.
За печкой открылась просторная кухня, заставленная громоздкими дощаными скамьями и столами. Посуда на столах и под столами была непривычно объемная и неопрятная. Кухня колыхнулась, порхнула нам навстречу, будто снялся ворох белых капустниц с полуобсохшей лужи. Дядю моего подхватило белопенным водоворотом, он в нем утонул, и только хохот и хрипловатый голос его доносились из клокочущих глубин. Не бывавший никогда в общественных кухнях, кроме детдомовской, но какая же там общественная, там своя, — испугался я темности этого загроможденного заведения. Шум, бабий гам увеличивали мою растерянность, и я уж собрался незаметно улизнуть на волю, но обнаружил своего дядю сидящим в чистом углу кухни, возле маленького стола, накрытого медицинской клеенкой, и начал успокаиваться. Над столиком по узким полочкам птичками сидели пузырьки, баночки, пробирки, ниже висели разнокалиберные черпаки, термометр и еще чего-то, — рассмотреть я уже не успел, потому что все эти кухонные принадлежности падали со звоном, которые и разбивались. И происходила вся эта проруха оттого, что девки ровно сбесились при появлении моего дяди.
На каждом колене у него сидело по девке, и не просто сидели те девки, а егозились, другие тоже времени не теряли, лепились к дяде сбоку, обнимая его за шею, кружились белым хороводом, чмокали его, кто в маковку, кто в щеку, и не понять было — озоруют они или уж в самом деле все втрескались в неотразимого кавалера? Он девок не отшивал, он дрыгался от щекотки, ойкал и хохотал, с торжествующим заглотом пригребал пучками девок к себе, не очень-то считаясь, куда и за что он их при этом хватает. А девки наседали! А девки наседали! «Хоть бы не задушили человека до смерти, вон какие сытые кобылищи!» — начал я ударяться в панику и услышал:
— Э-э! Не смущайте-ка мне племяша! — и когда девки чуть схлынули, произнес с насмешкой: — Он у нас начитанный до страсти! И вообще!.. — Вася повертел над головой растопыренными пальцами, поясняя, что не все у меня дома. — Про любовь читает ночи напролет! — приложив бортиком руку ко рту, сообщил девкам «по секрету»: — Все больше про баронесс и маркиз: «И, припадая к вашей атласной туфельке, я чувствую тепло вашей бож-жественной ножки. Ваш взор я ношу в сердце с тех пор, как лучи его пронзили меня еще на совместной детской прогулке возле развалин древнего замка Сэн Жуэн. Помните ли вы ту незабываемую прогулку, мой ангел? — О, да — страстным шепотом ответила маркиза, падая на грудь своего прекрасного кавалера».
«Ну и язычок дал Господь человеку!» Книжку о маркизе Де Бель-Иль я читал ранней осенью. Умываясь за печкой и утираясь полотенцем, Вася иногда заглядывал в нее, нависал над столиком, забыв про полотенце, но скоро спохватывался — вставал-то ведь в обрез, на работу надо, хмыкнув, удалялся. «Поди ж ты, плетет, чё в голову набредет! Ну не нахал! Да меня бы к этим девкам допустить, да я бы…»
А чего допускать? Кого допускать? Зачем допускать?! Девки быстро избавились от меня, как от лица постороннего, отвлекающего их от интересного занятия. Водворили меня в угол кухни, дали каши с хлопковым маслом, кружку молока, кусок хлеба — ешь, дескать, и не мяукай.
И, ошалев от такого изобилия вкусной пищи, я ел поначалу стеснительно, однако дядя Вася улучил момент, подмигнул мне, рубай, дескать, не теряйся, — он отвлекал на себя главные силы, заливал девкам, которые просили еще и еще декламировать им что-нибудь красивое и переживательное: «О, мадам! Вы прекрасны, как сицилийская бархатная роза! Ослепительны, как африканское солнце! Нежны, как аравийский персик! Ваш несравненный взор может соперничать с чистотой горного родника. Ваши ручки созданы для того, чтобы касаться божественного лика! Ваше нежное дыхание может согреть страждущего путника и несчастного юношу, оторванного от родных берегов и от вас, моя радость, мой кумир, моя награда! Но вдали от родных берегов я слышу ваш голос, ощущаю ваш нежный взор. Паруса моего корабля наполняются ветром нетерпеливой страсти, и я уношусь вдаль, чтобы исполнить долг сына, гражданина своего отечества и верного слуги короля, — я должен защищать честь нашего рода и древнего, славного герба, вот почему я среди этих безбрежных волн. Что ждет меня впереди? Там, в заветной стране Эльдорадо?[229] Знает один лишь Создатель. Но где бы я ни был, какие бы превратности судьбы ни обрушивались на меня, мое пламенное сердце всегда остается с вами, чтобы согреть вас, чтобы вы слышали, как, сливаясь вместе, биение наших сердец исторгает сладчайшую музыку любви и счастья…»