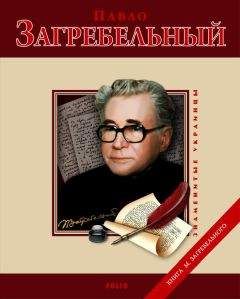Они уже повернули назад, шли близко друг от друга. Пронченко закурил сигарету, в короткой вспышке зажигалки Карналь впервые заметил, как густо серебрятся у него волосы на висках.
- В твоих мыслях, как всегда, много неожиданного, а неожиданное, известно же, вызывает сопротивление.
- Когда истина представляется неприятной, люди либо же пытаются отмахнуться от нее, либо объявляют ее недействительной, - сказал Карналь.
- Понимаю твое тяготение к обобщениям. Но вернемся к мысли о проявлении свободы. Я мог бы принять эту мысль, но с некоторыми дополнениями. К примеру, скажем, так: что такое человек? С моей точки зрения, это - сумма истории, гражданства, политики, достоинств, следствие его усилий и способностей, а также проявления свободы и героизма. На последнем хотелось бы сделать ударение, ибо героизм - это придание смысла всей своей жизни. Человек ограничен в возможностях от рождения, ибо неминуемо должен умереть, но за время между рождением и смертью имеет шанс проявить не только как можно больше свободы, но и героизм, который я поставил бы на первое место. Сезанн рисовал даже в тот день, когда умерла его мать. Один известный наш государственный деятель в день смерти жены, с которой прожил полстолетия, сел в самолет и полетел в самую горячую точку планеты, где необходимо было добиться примирения. Что это, как не героизм? Ты с похорон отца заезжаешь к себе на работу, проводишь директорское совещание. Как это называть?
- Ты и об этом знаешь?
- Такая должность. Хорошо, что свобода проявляется в нас, не порывая наших связей с миром.
- Я это понял на примере своей Айгюль. Долго не мог постичь, как можно танцевать, обретать невесомость, растворяться в волнах музыки, пережив наибольшую трагедию в жизни, сохранить беспечность и первозданную чистоту, сызмалу оставшись сиротой? Лишь со временем мне открылось. Абсолютная свобода - это что-то нечеловеческое. Каждая более высокая ступень в жизни человека - это не только шаг к свободе, но и новые обязательства.
- Чем больше власти, тем непозволительнее произвол.
- А знаешь, что мне вспомнилось? - спросил неожиданно Карналь. - Как-то пожелали наши ученые встретиться с одним товарищем. Вот так, как мы с тобой, для свободного обмена мнениями. Товарищ не очень и высокопоставленный, но занятый. Отказался. Нехватка времени?
- Не только, не только, Петр Андреевич. Ваш брат ученый - он какой? Он вмиг поймает меня или кого-либо другого на том, что я не знаю какой-то теории, не прочитал ту или иную книгу, не дослушал новую симфонию, не видел масштабного живописного полотна. Что тогда? Стыд, позор? Человек не может отказываться от знания, не унижая себя. Комплекса неполноценности пугаешься даже подсознательно. Вот так и ходим друг возле друга, боясь обжечься.
- Незнание никогда и никого не унижает. Позорно только нежелание знать, а когда человек просто неспособен все охватить... Думаешь, ученые знают все теории или писатели все читают друг друга, Шекспира, Данте, Толстого? Даже так называемые эрудиты, которые, кажется, знают все на свете, неминуемо отстают, поскольку все их знания - в прошлом, а даже вчерашний день - это уже прошлое. Я сегодня как-то подумал о математике...
- У меня такое впечатление, что ты о ней думаешь постоянно.
- Да. Собственно, о тех или иных проблемах. Но чтобы о всей науке - так нет. Сейчас насчитывается шестьдесят математических специальностей. Больше, чем в медицине, которая выделила уже отдельную отрасль на каждую часть человеческого тела. Но даже самые большие эрудиты знают разве что пятую часть собственной специальности. Научная необразованность стала одной из привилегий двадцатого века. К тому же эрудиты не разрешают проблем, а только пополняют запасы своих знаний. Это - как музейные запасники: много интересного, но все под замком, и еще неизвестно, пригодится ли когда-нибудь. Политические же и государственные деятели обладают сегодня самым ценным - информацией. Они относятся к наиболее информированным людям на земле. Может, их надо считать настоящими учеными? Без фальшивых докторских дипломов, без академических званий, без догматизма, нудного классификаторства и поддакивания. Границы знания передвигаются, перекраивается карта науки, изменяется само понятие учености. Главное же - у политических деятелей знания сразу идут в дело. Политики - это люди, обладающие почти уникальной способностью принимать своевременные решения. А откуда может взяться такая способность у пустоголового человека?
- Убедил, - засмеялся Пронченко. - Выдвигаю свою кандидатуру на выборах в Академию наук. А уж коли ты назвал меня самым информированным человеком, то проявлю это свойство надлежащим образом. Дошли до меня слухи, якобы ты хочешь бежать с директорства? Сам создавал все, а теперь бросаешь? Не то время, Петр Андреевич.
- Неужели Кучмиенко? - удивился Карналь. - Так быстро? Он и в самом деле, значит, имеет доступ повсюду?
- Пробивался и ко мне, да я не принял из-за загруженности. Сказал, чтобы в отделе приняли, поговорили.
- И что же он - предлагает свою кандидатуру?
- Намекал.
- Как раз вовремя. Готовится в доктора. Уже довел диссертацию до защиты. А у нас ведь как: все, что должно защититься, защитится.
- Это уж ваше дело. Заботьтесь о чистоте науки сами. Вам в ней быть всю жизнь. Никто не сменит и не заменит.
- В науке же, а не на директорских постах.
- Петр Андреевич, давай откровенно. Ты знаешь меня уже три десятилетия. Целую жизнь. Так вышло, что поставлен я несколько выше других. Какие у нас принципы? Искать настоящие характеры, истинное человеческое величие, уметь отгадывать его даже в незначительных намеках и проблесках, в формах детерминированной потенциальности, выражаясь научно. Такие люди неимоверная редкость, и счастье, когда находишь их, распознаешь. Это подарок и награда для нашего общества. Я рад, что нашел когда-то тебя, поверил, не ошибся. А теперь отпустить? Ты бы сам надо мной смеялся и презирал меня.
- Похоже, ты и приехал, чтобы поговорить об этом? - спросил Карналь.
- И об этом, но и не только. Хотел убедиться, что ты не сломался, подумать, если что, вместе, какая нужна тебе помощь. Но вижу, держишься.
- Держался, пока хоронили отца. Ох, держался, Владимир Иванович!.. Что же касается директорства, то... Кучмиенко спровоцировал меня на тот разговор, но не стану скрывать: мысль такая часто навещает меня. О Гальцеве хочется позаботиться своевременно.
- Был я у Гальцева, посидел немного с ним возле их тысяча тридцатой.
- Никто мне не говорил.
- А я просил не говорить.
- Ну, а о себе, Владимир Иванович... Тут такое... Если настанет день, когда мысль о работе в объединении вместо радости принесет мне тревогу, а вместо гордости - страх, то я не стану в муках выжимать из себя руководящие идеи, а пойду себе в университет, ограничусь наукой...
- Все-таки ты устал, Петр Андреевич. Просто измотался. С моря тебя сорвали, потому что позарез нужно было, теперь такое горе...
- Я устал еще от другого, Владимир Иванович. Давно меня мучит одна мысль. Помнишь, у Маркса где-то есть - об унаследовании социализмом технической базы капитализма. Но не слишком ли затянули мы это унаследование? Общественный строй мы создали невиданно новый, а материальная культура чуть ли не сплошь заимствованная, вторичная. Заимствуем модели машин, технологию, терминологию даже. Возьми нашу отрасль: "компьютер", "интегратор", "дисплей" - целые словари! Мы пытаемся делать что-то свое, в названиях машин упорно используем привычные, известные, дорогие слова: "Днепр", "Мир", "Минск", "Наири", но эти слова устаревают вместе с машинами, отходят в небытие, нарушая законы, по которым и слова должны жить, пока живет народ, а то и вечно. И вот наступает не то обессиливанье, не то исчерпыванье... Я боролся, пусть поборются те, у кого больше сил.
- Бороться должны мы, Петр Андреевич. Отказываться от технических идей только потому, что они могли возникнуть за рубежом на день или месяц раньше, чем у нас, мы не можем. Достижения человеческого разума должны принадлежать всему человечеству - это закон нашего планетарного общежития. Техника - это не идеология. А что порой отстаем, а потом пытаемся догонять, тут выход один: работать на опережение! Разве ты не так работал до сих пор? Есть такая истина: преодолевать можно только то, что предстает во весь рост. Иногда нужно дать трудностям возможность дозреть.
- Человек устает, Владимир Иванович.
- Мы с тобой не имеем на это права.
Они уже дошли до машины, последние слова Пронченко произнес, открывая дверцу.
- Домой, Петр Андреевич? И больше бодрости. Все, что тебе нужно, дадим, поможем, поддержим. Но только не демобилизационные настроения. Думается мне, что у тебя и не усталость, а просто скепсис, что развился под действием убийственной беспредельности сферы банального, который твой точный математический ум никак не может воспринимать. Среди ученых наблюдается такая болезнь. Горделивая миробоязнь. Так же, как у нас, политиков, нетерпение, опережающее возможности. А ты и ученый, и политик одновременно... Так что - договорились?