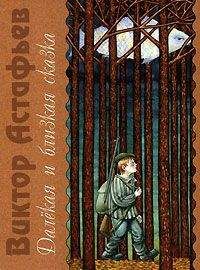Прелюбопытнейшая запись у Крашенинникова и о красноярцах. Привожу ее исключительно для того, чтобы показать, как неохотно исчезают и меняются привычки людей.
«От пещеры поехавши и на Овсянке лошадей переменивши, в город Красноярск того же дня к вечеру приехали. А здешнего города обычаи, которые мы, в нем живши, подметили, будут следующие: во время праздничное жители по гостям не званые ходят и черезчур упиваться любят, потому что иные из них почти весь город обходить не ленятся и инде чарку вина, а инде стакан пива урвут, и хотя уже в такое состояние придет, что на ногах ходить не может, однако ж лишбы в котором доме шум услышал, понеже из того признавают, что там попойка есть, хотя ползком ползет во двор, чтоб еще напиться…»
В селе нашем что ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине. Вот, например, Федорушка-мужик, дальняя мне родня по отцу, чего-то рассердился на жену, отделился от нее и ото всей семьи, забил дверь во вторую половину избы, живет один себе и жену свою не узнает, заодно и детей. Да кабы только знать их не знал! Он еще всячески вредит бедствующей семье, покоя ее лишает, дрова колет в жилище, весь порог изрубил, и чем больше его увещевают и совестят, тем он шибче кобенится.
Подамся-ка я лучше вниз, к Слизневскому лесоучастку, что прямо подо мною дымит кочегаркой гаража. Зимою в гараже перемерзали отопительные трубы и батареи, а сейчас кочегары решили откочегарить за всю зиму — дать жару! Работает кузница, дымит густо, деловито. В кузнице громыхает молотом глухой платоновский старик. «Дедка Платон, сколько тебе лет?» — «Не знаю, бат, не знаю, — ссаженным, звонким голосом отзывается он охотно. — Много поди-ко! Четыре наковальни за жись исколотил, за пяту вот взялся. Карточку и симсот грамм получаю да ишшо кады каши дадут. Хорошо, бат, живу!..» Хватаясь за выступы скал, за кусты и коренья, медленно спускался я вниз, но меня раскатило, понесло вместе с каменьями, и я какое-то время плыл в рыхлой лаве, но вот лава рассыпалась, а я так разогнался, что едва в речку не заскочил.
От Большой до Малой Слизневки рукой подать, там и околица села — вот она.
Тетка Августа жила в ту пору в доме, который перекуплен был лесоучастком и отдан семье лучшего шофера. Ныне в том доме, где прежде жила моя тетка, размещается магазин.
После похоронки с фронта местные мудрецы вместе с леспромхозовцами сумели оплести и выжить тетку из дома в ветхую избушку покойного охотника Лукаши, дав пятьсот рублей откупных.
В пору моей юности дом тот был еще крепок, крашен — сибирячки умеют и в годы бедствий не опускаться, содержать жилье в чистоте.
— Ой! — вздрогнула Августа, чего-то делавшая в кути.
— Откуль свалился?
— С гор!
— А у меня утресь головешка из печи на шесток выкатилась. Откуль, думаю, нечаянному гостю-то быть? А он, гляди, вот он!
Тетка говорила и пристально всматривалась в меня, и на ее лице заметно пробуждалась тревога. После того как зимой по пути в Овсянку я чуть было не замерз, больше бывать в селе мне не доводилось, но я не забыл того похода, и тетка, вижу, все помнит.
— Вытянулся-то! Вырос! — покачала она головой. — Чё-то бледный? Не хвораешь? Или питанье в фэзэу худо?
— Здоров! А питанье? Как везде сейчас. Жить можно. Девчонки-то где?
— По земляницу ушли. Скоро явятся. — Я молча и удивленно уставился на нее — какие еще ягодницы? — Да они близенько, на первом увале, и младшую, Лидку-то, с собой волокут…
Меня поташнивало, слова Августы, все звуки доходили до слуха как-то отдаленно, ровно бы сквозь воду. Я сказал, что лягу в сенках на лавку, в холодок. Августа притащила подушку, подсунула мне ее, припахивающую ребятишками, и встревожилась:
— Да ты дрожишь весь!
Она кинула на меня стеженое одеяло, тоже пахнущее детишками, сама побежала со двора и, уже открыв ворота, загадочно как-то и даже чуть лукаво объявила, что сейчас кого-то созовет.
Я впал в липкое забытье, которое знают те, кто принимает таблетки или уколы с сильно действующим снотворным, когда спишь не спишь, вроде бы все чувствуешь, но сам рукой шевельнуть не можешь, глаз открыть не в силах, соображается вяло.
Через какое-то время, короткое, длинное ли, я почувствовал прикосновение ко лбу костлявой, но такой теплой руки — все во мне отозвалось на это прикосновение, что-то защекотало лоб, лицо, закатилось в рот, — я облизал губы и улыбнулся — четверговая соль! — вернейшее из вернейших чудодейственных «бабушкиных» средствий. Соль, освященная на великий четверг, перед Пасхой! А хранится узелок с той солью в уголке за божницей, но какая молитва творится при этом, забыл. «Ах ты Боже мой! Легче, видно, с верой-то перемогать горе, смуту и невзгоды. Смешно! Смешно-то, смешно, да не очень, ровно бы я достиг наконец берега, и вдруг успокоилось во мне все сразу. Я глубоко и доверчиво заснул, как спать возможно разве что только дома, как уже давно не спал, — общежитие оно и есть общежитие, хотя наша комната была не воровская, не драчливая, все же шум, гам, боязнь продрыхать завтрак».
— Батюшко, сонце на закат, не надо бы спать-то! Очкнись — очкнись…
Бабушка! Катерина Петровна! Она всегда так говорила — очкнись, а не очнись. Не открывая глаз, я дотронулся до нее, нашел руку, сдавил жесткие пальцы, обтянутые сухой, будто выветренной, шелестящей кожей, и какое-то время побыл там, в далекой дали, когда мог я позволять себе болеть и бабушка сидела подле меня, положив на лоб прохладную, когда надо теплую, ото всех недугов исцеляющую руку.
Не принято у нас, у дураков, никаких нежностей. Маленькие еще, куда ни шло, можем приласкаться, но как в возраст вошел — шабаш, бука букой! Особенно если ты парень или мужик. Бабушка чувствовала мою застенчивую ласку и угадала то состояние, в каком я, отдохнувший после дороги, высветленный сном, пребывал, не спугивала меня, не мешала мне, гладила по голове, чем еще шибче разнежила:
— Все стриженай, все стриженай… Так, видно, и не носить тебе молодецкого чубу?
— Ниче-оо, поношу еще! Какие мои годы?.. — улыбнулся я и открыл глаза.
В старенькой латаной кофте, с отвисшей ниже подбородка некрасивой куриной кожей, усохшая лицом, но все еще решительная во взгляде, бабушка склонилась надо мной. В глубоких складках ее лица было горькое передо мною раскаянье. Я все еще, должно быть, казался ей младенцем, кинутым по ее вине в чужой дом, в гущу незнакомых людей, нет там мне никакой ни от кого защиты, я и побежал-то по горам, по долам, в одной гимнастерке, голоухом, и прихворнул неспроста — били, поди-ко, сильно, увечили, галились злые люди.
— Это сколько же мы не виделись?
— С прошлой осени. Зимусь был, Гуска сказывала, я в те поры на хлебах жила… — и отвернулась, — чё сделаш? Пропитанье каждому человеку требуется.
— А я шел, шел и пришел…
Бабушка всплакнет сейчас, маму вспоминать станет, меня и себя жалеть возьмется. Я попытался подняться, сел и схватился за голову — кружилась, позванивало, снова тошнить начало.
— Да что же это такое?
Поправив подушку, бабушка велела мне лечь и снова пощупала мою голову:
— Жару нет. Не знобит тебя больше? Чево худое не съел ли?
Я маленько выправился, голова перестала кружиться, лишь слегка подташнивало, и сказал, что съел всего одну земляничину.
— Это с самова-то утра? Ничего тогда дивного нет. Худо можется, коль не гложется… Ты бы пайку-то выпросил в фэзэу и шел. Наши каки достатки, сам видишь…
Я стал объяснять бабушке, как шел, шел и поднялся в такую уже высь, что стало от Слизневки совсем недалеко, а тут и деревня вот она, рядом. Духу моего не хватило повернуть обратно.
Рассказывая, пробовал я шутливо изобразить, как это все со мною было, и чувствовал, что не только бабушке, но и себе не могу толком объяснить, что волокло меня, тащило в горы, по каменистой слепой тропе.
Я вроде бы и ног не переставлял, плыл, плыл в каком-то забытьи, когда не чувствуется тверди под ногами, немо вокруг и все в каком-то одном, полупрозрачном цвете или дымке. Размыты вблизи и звуки, и краски, но блазнится открытие впереди — сделаешь шаг, другой, третий, — и достигнешь какого-то, давно тебе знакомого мира, вернешься к себе прежнему, все уляжется, все получит прежнюю определенность, все прояснится, и ты пойдешь, нет, поскачешь по знакомым цветастым полянам, ощутишь босыми ногами привычную ласку еще не очерствелой травы, привычное солнце привычно будет припекать тебе маковку, привычный ветер трепать будет рубаху на потной спине, и ощущение твердой земли под ногами — вернут сознание незыблемости жизни, и покинет сердце эта, год или два мучающая тревога, ожидание неминучей беды или какой-то тоже тревогу сулящей перемены в судьбе.
И я достиг той поляны, дошел до края, за которым чудилось мне беззаботное, такое близкое детство, достиг вершины хребта, на который не велено было подниматься детям, да и не хватило бы детских крохотных сил на преодоление такой преграды, подышал, посмотрел на мир, но мир не сузился передо мной до одной поляны, мир сделался многозвучней, ясней вблизи и тревожил далью, настороженно ожидающей, перекатная тревога сменилась теперь уж вечным, понял я, неспокоем, предчувствием чего-то, пока и самому неизвестного, и в сердце, в дальнем уголке его так и будет всегда шевелиться холодок, кружась колючей капелькой по его горячей и невеликой плоти. Что завтра? Через год? Через десять лет?