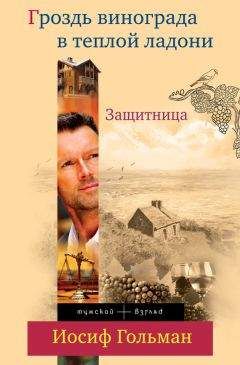Ознакомительная версия.
– А как она там, кстати? Я уже сто лет к ней не заезжала… Жива-здорова?
– Да пошла ты… – резко отпрянул от нее Толик и со всей злобно-отчаянной дури пнул ногой в колесо машины, и тут же взвыл от боли, и пошел, хромая, обратно через газон, приговаривая обиженно: – Сволочи… Все сволочи… И ты, и Пашка твой тоже!
* * *
Провожать Катю на вокзал поехали все. И Лена с Марком, и дети, и Анастасия Васильевна с Гришей. Стояли дружной маленькой кучкой у вагонных дверей, улыбались грустно. Даже Тонечка на руках Марка притихла, сложила пухлые ручки под подбородком совсем по-бабьи – смешно.
– Ну давай, Катерина, следующим летом ждем, – ободряюще пробасил-прохрипел Марк. – В институт поступишь, жить будешь с нами…
– Ну да! С вами… – встрепенулась вдруг Анастасия Васильевна. – Чего это с вами-то? Тут же ведь из нее няньку сделаете. Вон как вас друг к другу тянет – оторвать невозможно, а она девка добрая – только и будет рваться от детских хлопот вас освободить. Нет, Катерина, жить будешь у нас, места хватит! Я тебе отдельную комнату выделю.
– Спасибо, Анастасия Васильевна! – засмеялась сквозь слезы Катя. – И вообще, спасибо вам всем!
– Кать, так я на зимние каникулы приеду? – обнимая за плечи, прошептал ей в ухо Гриша. – Ага? Ты не грусти. У нас с тобой все еще лучше, чем у них, будет, – мотнул он головой в сторону Лены и Марка. – И детей мы себе еще больше родим!
– Да ну тебя… – засмеялась тихо Катя, коротко взглянув ему в глаза и тут же отчаянно покраснев. – Какие дети! А зимой приезжай, конечно! Мы с Мамасоней очень рады будем!
– А давай твою Мамасоню тоже замуж выдадим, Катерина! А? Смотри, как у нас с тобой это хорошо получается.
– И начнем этот процесс с ремонта квартиры? – весело засмеялась Катя. – Ну что ж, я не против, давай!
– Отъезжающие, пройдите в вагон! Поезд отправляется! – почему-то обращаясь именно к Кате, громко прокричала противным железнодорожным голосом полная проводница. – Заходите, заходите, девушка!
Быстро перецеловав всех и все-таки расплакавшись напоследок, Катя, подгоняемая проводницей, заскочила в вагон, помахала рукой, высунувшись из-за ее необъятной спины. Исполняя привычную свою работу, проводница ловко закрыла вагонную дверь, повернулась лицом к Кате.
– Что, в гости ездила, что ль? – спросила, улыбнувшись.
– Ага…
– А кто это провожал-то тебя, родня, что ли?
– Ага…
– Такая большая?
– Ага, большая…
– Ну, что ж тут скажешь. Счастливая ты, выходит, девка!
«…Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы…»
(Ветхий Завет, Книга Екклесиаста, гл. 7.)
Сон вспорхнул и улетел быстрой испуганной птицей, будто невидимый кто подошел, тронул за плечо – вставай. Мария открыла глаза, оторвала голову от подушки и начала подниматься, неуклюже вытаскивать себя из теплой ямы продавленного тяжестью ее грузного тела матраса. Она всегда, сколько помнит себя, так просыпалась – сама себе будильник. Как деревенский петух, в шесть утра. Так уж привыклось смолоду, с самого детства. Да и в радость были эти утренние подъемы – кто рано встает, тому бог подает. Это сейчас от них ни толку, ни прежней радости нет – отвернулся от нее, видно, бог-то. А иначе для чего мужа, Бориску, взял и прибрал к себе, а ее здесь оставил, совсем одну… Маета ж чистая. Потому как исчезла в ней с уходом Бориски земная необходимость, а богу – ему там, наверху, и заботы нет, что она будет делать с этими утренними часами, такими, бывало, приятно-суетливыми, наполненными чудесными запахами свежезаваренного чая да исходящих нежной румяностью только-только вынутых из духовки сдобных булочек, да тихим ворчанием подошедшего на горячий хлебный дух Бориски, да радостным бормотанием улыбчивой девчонки-дикторши из маленького телевизора, что примостился на холодильнике. Не для себя же теперь эти булочки печь, в самом деле…
Горестно сгорбившись и свесив с кровати ноги, она уставилась в темное окно за узорчатой белой занавеской – сырое, холодное, ноябрьское. Другим бы и в радость поспать в такое утро, а ей – хоть глаза выколи. Поплакать хоть, что ли, – может, не все еще слезы утекли. «Эх ты, Бориска, Бориска… Что ж ты меня так подвел, бессовестный? Все же на том сходилось, что я раньше должна была прибраться, потому как несправедливо это. И моложе ты меня на целых десять лет, и здоровьем крепче – как твердый малосольный огурец бегал, молодой да ядреный. Шестьдесят пять – какой такой возраст для мужика? А вот поди ж ты… И откуда он только взялся, тот проклятущий тромб, раз – и нет человека. Живешь, живешь себе и не знаешь, каким именем твоя смерть будет называться. И что мне теперь прикажешь, дорогой Бориска, как жить, куда себя приспособить?»
– Вот горе-то… – тихо проговорила Мария, обращаясь к холодно-серому мокрому окну. – Хожу теперь по огромной квартире одна из угла в угол, аукаюсь, и нет мне нигде места.
От пролившихся быстрых слез стало совсем уж неуютно и зябко, а может, это в квартире так холодно – плохо батареи еще топят, тепло экономят перед зимой. Вздохнув, она снова забралась под одеяло, удобно пристроила себя в знакомые, давно уже изученные изгибы продавленного матраса, закрыла глаза и начала вспоминать.
– …Какая ж ты старательная у нас, Машенька! Не санитарка, а просто золотой подарок судьбы! И все-то ты успеваешь, и морду не кривишь, и злобность профессиональная в тебе начисто отсутствует!
– Ой, да что вы, Софья Андреевна… На кого ж тут злиться-то? На больных людей, что ли? Они ж не виноваты, что свой горшок сами вынести не могут! Им-то ведь еще горше от этого.
– Ну да, ну да… Просто странно как-то. Я вот больше сорока лет в медицине и до начальников каких-никаких умудрилась дослужиться, а такую санитарку впервые вижу. Добрая санитарка – это как еврей-колхозник, уж поверь мне. А семья у тебя большая, Машенька? Муж у тебя кто?
– А мужа нет, Софья Андреевна. Не получилось как-то, некогда было.
– Так ты одна совсем?
– Нет, не одна. Я с мамой живу. Вернее, мачеха она мне. А еще с сестрицей младшей, по отцу сводной, и с дочкой ее. Много нас, кое-как в квартире помещаемся – по головам ходим.
– Не замужем, значит… Эх, и куда только мужики смотрят? И я вот своего Бориску никак женить не могу! Не хочет, зараза, и все тут! Слишком я его опекала да любила всю жизнь, шагу ступить самому не давала, совсем испортила. Когда поняла свою ошибку, уж поздно было. Тридцать лет балбесу, а все по разовым бабам прыгает да под моей юбкой прячется! Пристроить бы его вот за такую, как ты. А тебе сколько лет, Маруся?
– Да много. Сорок уже.
– Да… И в самом деле много. А жаль!
– Да не расстраивайтесь, Софья Андреевна! Женится еще ваш сын. Он у вас красивый такой парень, видный!
– А ты где его углядеть успела?
– Так он приходил как-то сюда, в больницу, спрашивал у меня, как вас найти. Я его прямо до вашего кабинета и проводила. Вот тогда и разглядела.
А через неделю Бориска сам нашел ее в больнице. Она издалека его приметила – идет по коридору весь растерянный, головой вокруг вертит, как птенец, из гнезда выпавший…
– Извините, а вы не подскажете, где мне найти Машу Потапову?
– Я Маша Потапова.
– Вы?! – разочарованно выдохнул он и отстранился даже, с испугом вглядываясь в ее широкое простое лицо со стянутым белой косынкой лбом и красными от работы щеками.
– Ну да, я… А что? Вас Софья Андреевна за мной прислала, наверное? Я слышала, инсульт у нее.
– Да… Да, мама меня за вами прислала. Вы не могли бы к нам зайти сегодня? Она очень просила, чтоб вы пришли!
– Конечно! Конечно, зайду! А как она?
– Плохо. Вся правая половина тела парализована. Лежит вот…
– Так а в больницу-то почему ее не привезли?
– Да не хочет она! Уперлась – и все тут. Всю жизнь, говорит, в больнице провела, а умирать, говорит, дома буду. А вы точно придете? А то я подрастерялся как-то – все из рук валится, она сердится.
– А вот прямо сейчас и пойду! Домою только нижний коридор, да ординаторскую еще.
– Спасибо вам, Маша.
Он церемонно поклонился и пошел прочь по блестящему, только что вымытому ею линолеуму больничного коридора. «И впрямь недоразвитый мужик, – подумала она, глядя на его согнутую спину и узкие женские плечи. – Ишь, как идет – будто упасть боится… А личико красивое, нежное, как у бабы».
Уже через полтора часа она, глотая жалостливые слезы, сидела на стульчике у постели Софьи Андреевны, пытаясь изо всех сил разобрать и сложить в слова эмоциональные, с трудом издаваемые ею плавающие невнятные звуки, и гладила ее тихонько по правой руке, безвольной сухой плеточкой лежащей поверх одеяла.
– Софья Андреевна, да вы не торопитесь так, успокойтесь. Вы говорите помедленнее.
Что? А-а-а… Ну-ну, поняла. Пожить у вас. Кому пожить-то? А-а-а… Мне пожить! Понятно… Работа? Какая работа? Нет? А-а-а… С работы уйти? Мне? Вы хотите, чтоб я прямо вот тут у вас жила? И за вами ходила? Ой, не волнуйтесь так, пожалуйста! Поняла я, поняла… Что ж… Хорошо, Софья Андреевна… Я завтра же уволюсь и перееду к вам… А сейчас давайте-ка я каши сварю да белье поменяю. И проветрить надо – душно тут у вас.
Ознакомительная версия.