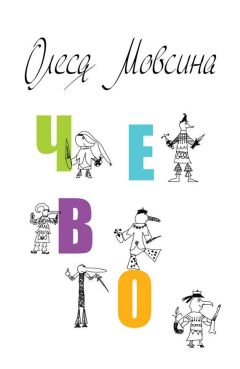И еще, конечно же, Марк думал о своей ошибке. Как могло получиться, что по налаженному им информационному каналу сведения хлынули в обратную сторону? Он не имел права допускать подобных вещей!
Когда вечером Марк заехал за новоиспеченным приятелем, всерьез восприняв идею боулинга, его заплаканная жена сообщила, что какие-то три негодяя похитили Йози. Она ничего не знает, но, дескать, кто-то давно завидует ему и охотится за его гениальным изобретением.
Эта новость так обескуражила нашего бесстрашного разведчика, что он поспешно откланялся, даже не попытавшись быстро вчитаться в убитую горем рыжеволосую даму.
Ну и вот, значицца, пошли они в баню. Вернее, в Союз банных работников, понесли туда чучело Жучки, выполненное в натуральную величину. Было это на понедельниковом рассвете, и следовала за ними, перебегая от угла до угла, осторожная тень. (Видимо, Яромиру Кашице в эту утреннюю смену тоже не спалось.)
Лада какое-то время пошепталась с тщедушной (но вполне великодушной) начальницей душевого отделения товарищью Веревкиной и всё уладила. Правда, оная товарищь возжелала составить протокол оживления собачки и задала несколько вопросов.
— Какова причина гибели вашей питомицы? — заломила она сразу цену откровенности.
— Естественная, — кажется, чересчур поспешно выпалили трое.
Веревкина внимательно осмотрела Жучку, выдавая в себе ветерана ветеринарного дела, но послушно записала: «На теле чучела обнаружены следы естественной смерти». И зачем-то добавила вслух: «Аминь».
И вот понесли Жучку, только захлопнулась перед носом Адамовича дверь с надписью «Душ-и-губка». Что предстоит пережить его верной дворняге, он не знал. Через двадцать минут оттуда вышла санитарочка в розовом халатике с шильдиком на левой груди: «Ирочка Буженина» и поманила его пальцем:
— Всё в порядке, она отдыхает. Скоро вы увидите ее живой и невредимой, — а потом нежно и очень неожиданно добавила: — А я знаю, что вы ищете.
…в другой ее жизни она французская певичка Нина Буже…
Адамовича, если помните, переклинило на этом вопросе, поэтому он, забыв о конспирации, подскочил.
— Не знаю чево, — продолжала девушка вкрадчиво, — то есть, я знаю, что вы ищете тово-не-знаю-чево.
Спустя час Адамович, Кисса, Лада и воскресшая Жучка уже следовали за розовым халатиком незнамо куда. А Буженина прямо на ходу подгоняла к ним аккуратные тележки о том, что, мол, она живет некой двойной жизнью, что это здесь она банщица Буженина, а в другой ее жизни она французская певичка Нина Буже, и что, мол, ее патронесса и благодетельница герцогиня Флора знает всё на свете, даже то, чего не знает никто, и что, мол, она, Буженина их к Флоре сейчас отведет, и вообще обещала им райские кучи, попутно пытаясь соблазнить Адамовича.
И вот они все вместе пришли в лес. В лесу стоял замок, весь в лесах, на временной вывеске было намалевано желтой краской: «Стриптиз-клуб для слепых „Леди Годива“», а чуть пониже — извиняющееся: «Витрина оформляется». Навстречу им вышла хозяйка замка, герцогиня Флора, дама, страдающая хронической эмигренью, даже в старости сохранившая следы былого безобразия на лице.
Это от первого мужа, — пояснила она, — А это… — её взгляд упал на изваяния двух мраморных нутрий возле дверей, — прошу вас.
После недолгих препирательств со слепой квохтершей, которая упорно не хотела впускать «зверье», они поднялись по величественной когда-то мраморной лестнице на второй этаж и оказались у доски объявлений. Почему-то на ней была прикноплена только одна ветхая бумажка, чёрным по желтому гласившая: «Кефир в комнате № 5. 3 руб. 50 коп. за бут.»
— Арендаторы, — подмигнула герцогиня Ладе.
Далее друзьям пришлось поддержать на весу светскую беседу о питании раздельном, слитном и через-дефис, а уж потом каждому из них выдали некую тару для нектара, что предвещало приближение угощений. Они приближались со скрипом на небольшой золоченой тележке, толкаемой котом-инвалидом по имени Офелий.
Вы прошили напомнить… — начал тот, шепелявя и немного в нос.
Я помню, ступай.
Офелий медленно кивнул, стал пятиться к дверям и, наконец, скрылся в их темном проеме, что-то прошипев.
Он уже давно у нас. Последний из рода Поплавских. Ничего не помнит о своей родне… Но вернемся к делу, — сказала герцогиня и растворилась в утренней дымке.
Странная она какая-то, — вздрогнул Адамович.
Зато объяснила всё как положено, — съязвила Кисса.
И тогда начал мигать и гаснуть свет, причем не только в плафонах замка, но и за окнами, кажется, тоже.
— Ой, — прошептала Кисса, потому что ей показалось, что она теряет сознание. И еще показалось Каруселькиной на миг, что из темных подвалов памяти на нее надвигается нелепых размеров кот, чуть ли не с рогами, и шепелявит ей прямо в ухо:
— Вот ты меня пошлушай, я вщё жнаю. Жил-был Кощей, и хранил он шмерть швою как и положено в яйше. Надумал он женичьшя, ну, ештештвенно на Вашилише. Штал он, жначит, шары к ней подкатывать. А тут Иван-то Шаревишь — хвать Кощея за яйшо и не отпушкает. Отобрал, жначит. Потом… — кот закашлялся, судя по всему, он был серьезно болен, — пошле этого и штали яйша отборными наживать. А шмерть теперь Кощею негде хранить, поэтому он и не хранит ее больше.
Кисса хотела истошно завизжать, но сдержалась и выдавила в лицо этому коллективному бессознательному:
— Какая гнусная история.
— Я и не такие жнаю, — усмехнулся кот, уже растворяясь, уступая свое место сознанию и свету.
А Ладе привиделось немножко другое. Почему-то она поняла, что это был консьерж: к ней подошел огромный консервный нож, и воздухе запахло морем. Лада никогда не нюхала моря, но она слышала, как говорили: запахло морем. Повеяло великими открытиями, и слева от консьержа прозвенело: «Колумбово яйцо, вся Истина в колумбовом яйце…», — причем Истина прозвучала явно с большой буквы.
— Чушка кая-то, — пробормотала прагматичная наша Ладушка.
А к Жучке явились какие-то братья Гриль. Сначала с потолка посыпалась еда, а потом вошли они, с табличками на груди, гласившими: «Мы — братья Гриль». Один из них заговорщицки признался:
— А мы умеем делать шаверму из собак.
Другой был еще менее адекватен, он начал рассказывать:
— Жили-были баодед и баобаба. И была у них курочка баоряба. Снесла раз она…
Но Жучка не стерпела такого издевательства. Она что было силы закричала на непрошеных гостей: «Гав-гав-гав!», и те позёрно отступили, показав зрителю спины с табличками: «Мы — братья Сычужные».
Вот такие дела. А что же увидел Адамович? Когда внезапно стемнело, он неловко вскочил, что-то опрокинул и что-то пролил, возможно, свет.
— Сядь, — повелела Ирочка-Ниночка и сама взгромоздилась к нему на колени, — Ты должен убить Кощея. Он не бессмертный, смерть его живет в хрустальной пепельнице, похожей на яйцо. В данный момент пепельница — в животе у Белкова. Верный слуга день-деньской сидит на горшке, пытаясь извлечь смерть Инфаркта Миокардовича как можно тактичней. Кощей волнуется и ждет. А ты должен их всех перехитрить.
Тут все пришли в себя от Жучкиного лая. Вернулся свет, вернулись угощения, вернулся даже кот Офелий, прятавшийся за филенчатой дверью, и просипел:
— Уединеншия жаконщена, гошпода!
Причем увидев последнего из рода Поплавских, Кисса Каруселькина попыталась спрятаться за Адамовича, так, на всякий случай. А когда котяра вышел, откланявшись, Лада цинично победила остатки наваждения, брякнув:
Он уже давно у нас. Последний из рода Поплавских.
— Ишь, как воздух испортил, мерзавец. И всем сразу стало смешно и спокойно, всем захотелось скорей вон из замка, на волю.
Матвею нравилось наблюдать, он только удивлялся тому, как быстро можно привыкнуть к нелепости и несвободе. Единственной отрицательной эмоцией молодого философа было желание грубо и по-мужицки ударить в лицо наглого Псевдо-Квази, обманувшего, опоившего и продолжавшего исподтишка издеваться.
Матвей не думал, чем рано или поздно закончится этот бедлам. Приняв все условия Лесного Дома, он отдался созерцанию и стал осторожно знакомиться с сектантами.
Сумасшедшими они не были. Но нормальными людьми — тоже вряд ли. Матвею представлялись они какими-то заколдованными что ли; такое определение вполне гармонировало с обстановкой, при этом двусмысленно кивало на лица и отношения между ними.
Не торопясь делать выводы о товарищах по несчастью, герой наш взялся укрощать идею, которая брыкалась и вставала на дыбы с первой минуты возвращения сознания. Я не Кьеркегор! — выстанывало в нем дитя двадцатого века, а между тем именно так называли Матвея все ныне окружающие.