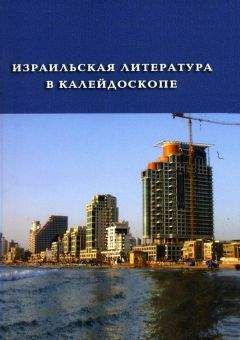Лишь бы парень действительно оказался на высоте. И через пять минут тот вышел из другой комнаты, вспотевший, с тремя напечатанными страницами в руке. Рассказ, который он написал, был, вне всякого сомнения, замечательным. Не о девочке и не захватывающий, но волнующий своим исступлением. Когда черт сказал ему об этом, парень не скрывал, что ужасно обрадовался. Улыбка на его лице осталась и после того, как черт вынул у него талант, аккуратно сложил его до малюсенького размера и поместил в специальную коробочку с пенопластом. И все это время человек даже ни разу не изобразил из себя мученика, только принес ему еще сладостей.
— Передай своим боссам спасибо, — сказал он черту. — Скажи им, что я на самом деле получил удовольствие, от таланта и от всего. Не забудь.
И черт обещал ему и подумал про себя, что, если бы он был не чертом, а тоже человеком или просто они познакомились бы при других обстоятельствах, они могли бы стать друзьями.
— Ты знаешь, чем будешь теперь заниматься? — спросил черт озабоченно, когда уже стоял в дверях.
— Сказать по правде, нет. Наверняка, мне захочется пойти к морю, повидаться с друзьями, что-нибудь вроде этого. А ты?
— Работа, — сказал черт и поправил ящик на спине. — Кроме работы, поверь, у меня ничего нет в голове.
— Скажи, просто любопытно, что делают в конце концов со всеми этими талантами? — спросил парень.
— Точно я не знаю, — признался черт, — я просто приношу их на склад, там их у меня пересчитывают, расписываются на накладной и все. Что с ними происходит потом, я, в сущности, не имею понятия.
— Если при подсчете у тебя выйдет один лишний, я всегда буду рад получить его назад, — рассмеялся парень и хлопнул по ящику. И черт тоже рассмеялся, но каким-то деланным смехом и все четыре этажа вниз думал только о рассказе, что тот написал, и об этой работе по изъятию, которая раньше казалась ему такой привлекательной.
(От переводчика:
Читаю рассказы Эфраима Кишона, искрящиеся тонким юмором или наполненные колючей сатирой, с наслаждением.)
Мой дядя Эгон — хороший еврей, но это не значит, что он также и сионист. Когда я уехал в Израиль, он отправился в США, в Нью-Йорк. Не из-за неприязни к Израилю, а так, неизвестно почему. Он подумал, что такому ловкому дельцу, как он, ничего не нужно, кроме как сойти с трапа корабля, и доллары, наверняка, сами начнут сыпаться ему в карман. Между прочим, так в точности и произошло. Что нам оставалось делать? Мы написали ему в досаде, что здесь все не так просто, но мы не ощущаем недостатка ни в чем. Что оставалось ему? Он перестал присылать нам посылки.
Противоречия между нами обострились, когда на пятом году после моего переезда в Израиль мы посетили нашего могущественного друга. Дядя Эгон принял нас в своем прекрасном доме и проявил к нам большую любовь. Нас разъединял только вопрос о регионе Ближнего Востока. То есть, дядя Эгон ни на йоту не отступал от своей позиции нейтралитета по отношению к еврейскому государству:
— Я ежегодно вношу пожертвования для вас, — говорил он, — но не знаю, что есть у вас там такое, чего нет у меня здесь?
— Я прекрасно чувствую себя там, — отвечал я.
— Я тоже, — говорил Эгон. — Тогда какая разница?
— Я живу среди двух миллионов евреев, — горячился я.
— Так я тоже.
— Но у нас президент — еврей.
— Ладно, когда я надумаю стать президентом, приеду в Израиль…
Примерно на этой стадии спора мы обычно расходились, чувствуя стыд за своего ближнего. Но это не портило хороших отношений между нами; более того, когда я был приглашен министерством иностранных дел Соединенных Штатов посмотреть на военный парад в День провозглашения независимости США, дядя Эгон сопровождал меня, расчувствовавшись от чести, которая выпала благодаря мне на его долю.
Я не собираюсь задевать наши патриотические чувства, но американцы умеют организовать парад. В течение какого-то времени я считал военные оркестры, принимавшие в нем участие, но дойдя до числа пятьдесят, отчаялся.
Дядя аплодировал с сияющим лицом и спросил:
— Ну, как у нас?
— Неплохо, — пробормотал я, — неплохо.
По прошествии шести часов, в заключение парада, над нашими головами сотрясали воздух около четырех сотен реактивных самолетов разных видов. Дядя в восхищении смотрел вверх:
— Видишь?! — ликовал он. — Нет больше такой силы во всем мире!
Я хотел ответить ему что-то подобающее, но не не нашел что.
* * *
Год спустя произошло чудо. Мой дядя Эгон приехал в Израиль. Не по какой-то особой причине, Б-же упаси, просто он совершал, по случаю, поездку по Европе и надумал заскочить также, действительно, а почему бы и нет, к своим родственникам в Израиль. На этот раз он был правительственным гостем, и благодаря ему я наслаждался почетом, которого удостаиваются туристы в день парада.
Был образцовый порядок, то есть, мы прошли пешком около двадцати километров, солнце пекло в полную силу, места на трибуне были совершенно неудобными и вдобавок к этому за немалую цену. Дядя сдерживался и не сказал ни слова. Полтора часа мы сидели в спертой атмосфере. Когда раздали флаги, дядя Эгон захлопал в ладоши. После этого над нашими головами появились восемь самолетов «Mystere». Дядя Эгон смотрел вверх, и из его глаз текли слезы. Когда пролетели четыре вертолета, он уже плакал, как ребенок.
— Дядя, — сказал я ему, — вот это и есть разница.
— Жена, — прошептал я, — у меня четверть часа назад упала ручка.
Жена лежала на диване и причмокивала кубики льда.
— Так подними, — промямлила она, лежа на спине, — подними…
— Не могу, — ответил я, — у меня нет сил…
В нашей квартире слишком много градусов. В спальне 42 градуса по Цельсию. На южной стороне кухни мы намеряли в полдень сорок восемь градусов в тени. С раннего утра, с 11 часов я сижу перед сверкающим белизной листом бумаги и пытаюсь сочинить какую-нибудь сатиру, но терплю фиаско, так как для того, чтобы поднять не вовремя упавшую ручку, я должен бы наклонить тело вниз под углом 45 градусов и изогнуться, а тогда пузырь со льдом соскользнул бы с моей макушки и это был бы конец. С понятной осторожностью я извлек свою левую ногу из миски с холодной водой и попытался дотянуться пальцами до ручки, но она находилась вне пределов досягаемости. Я не знал, что делать: сегодня уже пятый день, как я сижу перед чистым от мыслей листом, а сумел написать в конце концов одно-единственное предложение: «Ужасно жарко, друзья!» Действительно жарко. Жарко до изнеможения. Говорят, что такого еще не было. Ни разу. Правда, в 1936 году была почти такая же жара, как сейчас, но не было такой влажности. Напротив, в 69-м было ужасно влажно, но жара не доходила до такой степени. Только в 1971 жара и влажность были такими же, но не здесь, а в Африке. Африка — язык во рту ворочается со странной тяжестью — Африка? Аф-ри-ка! Какое это слово А-ф-р-и-к-а…
— Жена, что такое Африка? — спрашиваю я.
— Африка, — бормочет она, — Арфика…
Она говорит «Арфика». Арфика? Возможно, это и правильно. Сейчас я уже не знаю. Вообще, сказать по правде, с тех пор, как зной начал усиливаться, я чувствую себя окончательно разбитым. Из-за жары. Весь день я сижу на чем-нибудь, не важно на чем, и стараюсь не двигаться. За неделю, может быть раза три моргнул своими остекленевшими глазами. В голове пустота. Однако что-то было. Что я хотел сказать? Да, очень жарко сейчас…
Звонит телефон. Чудо, что он еще работает. Я протягиваю правую руку на заметное расстояние — до трубки.
— Алло, — шепчет трубка хриплым голосом Феликса Зелига, моего соседа из ближайшей квартиры. — Я на Буграшова. Чувствую себя отвратительно. Могу я поговорить со своей женой?
— Безусловно, — отвечаю я, — только набери номер своего телефона.
— Верно, об этом я не подумал. Спасибо…
Вдруг раздался мощный стук падающего тела, и вслед за ним в телефоне воцарилась тишина. Очень хорошо. Длинная беседа меня утомляет. Я знаками показал своей маленькой женушке, что Феликс, по-видимому, умер.
— Нужно сообщить Эрне, — прошептала жена.
Летом мы разговариваем вот такими короткими предложениями, без особых сложностей. Жена, кстати, все время читает карманное издание книг ужасов. Она утверждает, что это вызывает у нее дрожь и помогает ей переносить жару.
Что мы хотели сделать? Ах, да, сообщить Эрне, вдове Феликса, что он пал на улице Буграшов. Эрна находится на расстоянии двух стенок от нас, но как до нее дойти? С нечеловеческим усилием я встаю и тащу свое измученное тело вдоль стенок к двери своего жилища. Я выхожу на лестничную площадку, и дверь со стуком захлопывается за мной. Я опираюсь на перила и, высунув язык, тяжело дышу. Какая жара, Б-же милосердный, ведь можно сдуреть от этого! Но зачем это я вышел из квартиры? Для чего? Уже не помню. Хочу вернуться домой, но дверь заперта. Что теперь делать? Человек находится перед дверью своей квартиры, его жена — внутри, лежит себе на диване, а дверь заперта. С ума сойти. Что делают в подобных случаях? Жарко. Жарковато.