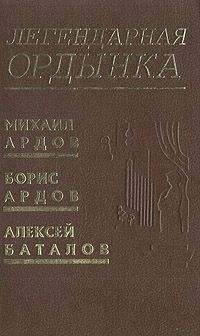Однако Араму не пришлось поднимать этот вопрос. Повесившись на балке, Джу сделал свой выбор, который как бы оправдывался обстоятельствами. Для некоторых людей везение есть не что иное, как постоянная возможность садиться на одного и того же конька. Для других же — это возможность менять одного конька на другого. Везение Джузеппе оставило ему самый узкий, самый ничтожный горизонт, какой только дано иметь художнику. А с годами оно же в конечном счете уничтожило все иные проекты. Казалось, что у него не было в этом мире никакого другого корня, никакого другого смысла существования. Его можно было считать безумцем, маньяком, извращенцем. Он был таковым не больше и не меньше других, тех, на кого он смотрел сверху, когда они входили в отель и выходили из него. Довольно трудно одаривать его той несколько презрительной симпатией, которую люди адресуют неудачникам и оригиналам. Арам, размышляя теперь об этом, говорил себе, что Джу, несмотря на производимое им впечатление путешественника, витающего в облаках и гоняющегося за химерами, на самом деле всегда отдавал себе отчет, где он находится. Прекрасно видя, что никуда не идет и не может идти. Он сделал из своей жизни, равно как и из своей работы, что-то вроде кальки, с которой без конца переносил и воспроизводил рисунок. Незаметное, замедленное самоубийство.
По существу, все в нем отвергало идею страдания либо ответственности. Однако последняя стадия его маршрута, его путешествия сквозь ничто, плохо гармонировала с провозглашенной им эвтаназической[21] свободой. Смерть нельзя считать чем-то несущественным, каким-то нечаянным обстоятельством, внезапно создавшим вокруг него вакуум. Напротив, она реконструировала все его существование, превращая последнее в ожидание и свершение. Араму теперь казалось, что, если бы он уделил больше внимания высказываниям Джу, ему бы удалось лучше распознать за этой кажущейся насмешливостью какую-то трезвую горечь, для которой не было иного выхода.
«Имей я хотя бы возможность воспроизвести одну из тех великих оргий с саблями наголо, с академическими обнаженными натурами, с искалеченными лошадьми, с униформами, переливающимися всеми цветами, с трупами, причем на фоне какого-нибудь невероятно грандиозного прибоя… скажем, «Мюрам в Абукире» или, например, «Восстание в Каире»… я бы, возможно, смог бы еще принимать себя всерьез. Я хочу сказать, что после вылизывания всех этих копий у меня, быть может, еще бы появилось желание подписать их своим именем. Тогда я стал бы по крайней мере известен как автор подделок и при случае угодил бы в тюрьму. Тюрьмы, настоящей тюрьмы, мне как раз и недоставало. Как ты думаешь, а?»
Мнения на этот счет у Арама не было.
«Если им хотя бы пришло в голову попросить меня сделать копию «Перехода через Сен-Бернарский перевал» Тевенена… разница идей по крайней мере дала бы мне возможность позабавиться при работе. Так нет же, чертовы клиенты желают только это, и ничего больше!»
Как-то раз в глазах Боласко заметались молнии, и Арам увидел, как он прежде, чем начать рисовать, с негодованием тычет кистью в изображение лика страшной кары.
«Я просто не перевариваю этого типа. Всегда его презирал! А ты?.. Какой-то Коллеоне из Фоли-Бержера!»
Эта фраза запечатлелась в памяти Арама. Может быть, драма началась именно с этой несовместимости между художником и моделью, как в некоторых семьях, где после тридцати или сорока лет совместной жизни супруги обнаруживают в — себе взаимную ненависть и начинают мечтать о том, как избавиться друг от друга с помощью ножа или яда. По-видимому, для Боласко задача была не из простых, выдержать им самим определенный срок с этим парнем под носом, неизменно сидящим и гарцующим на своем Гиппогрифе.
Первая часть. Сумерки на террасе
Коридорный, собиравшийся сделать несколько затяжек, едва успел смять в кулаке сигарету. Из глубины коридора прямо на него двигался сам директор со своей свитой и еще кем-то внутри группы, на полголовы возвышающимся над остальными.
Вот ведь повезло: достаточно одному из группы заметить сигарету, и его песенка была бы спета. С такими, как у этих типов, представлениями о поведении на работе нет более неслыханной дерзости, большей наглости, чем выставиться вот так с окурком в руке во время дежурства. Даже тогда, когда клиенты еще дрыхнут на своих перинах из долларов и швейцарских франков за плотными прочными двойными дверями. Обманчивая видимость у всех этих широких, кажущихся пустынными проспектов, выстеленных жаккардовыми коврами. Несколько раз он там попадался. Однако еще никогда, чтобы с сигаретой, как эта, марки «Лоуренс», сверкающая своим золотым ободком, которую он совершенно целехонькой извлек из пепельницы с головой сокола, изображенной на матовом фоне рядом с вензелем отеля. И вот надо же! Мысль о проступке почти заслонила боль от ожога. Как это можно допустить, чтобы член обслуживающего этаж персонала превращал коридоры в курительные комнаты, отчего неприятные запахи неизбежно проникнут в комнаты вслед за подносом с завтраком или всего одной бутылочкой нидеровской зельтерской?
Группа миновала его, плотно вжатого в стену, будто от взрывной волны или выхлопных газов реактивного двигателя. Немного успокоившись, он стал размышлять.
Этот визит, хотя он носил явно официальный характер, показался ему нарушением всех норм. Не было никакого телефонного звонка из приемного холла, предупреждающего о том, что нужно стоять наготове рядом у двери лифта. Не было никакого указания и на доске дежурства. Наконец, когда сегодня утром в бельевой на этаже он, как всегда, макал toats[22] в кофе с молоком в компании горничных, ни одна из этих дур, похоже, не была в курсе этой суматохи, охватившей весь staff. Ни архиепископ из Сиднея, ни ударник из «Роллинг Стоунз», ни вратарь «Кардиффа» не удостоились бы стольких знаков внимания, которые виновник происходящего, казалось, вовсе не замечал.
А кроме прочего сразу возникает вопрос: куда они его денут? Пока ни один номер не освободился. А те, что должны освободиться, уже давно зарезервированы. Это тебе не какой-нибудь караван-сарай в одной из новых африканских республик, где людей выгоняют, как только заявятся делегации на какую-нибудь политическую ассамблею!
Группа остановилась, и весь штаб принялся внимательно следить за жестами клиента, который что-то искал в своем кармане.
По мере наблюдения за ним, — а коридорный продолжил это занятие, потому что никто, похоже, не замечал его присутствия, — все больше бросалось в глаза, до какой степени его поведение не соответствовало привычным нормам. Ни одного из тех признаков, по которым всякого вновь прибывшего тотчас оценивают, угадывают, снабжают ярлыком, ставят на надлежащее место, причем ошибка равняется практически нулю. Все эти признаки отсутствовали, поскольку у него не было ни багажа, ни сопровождающих. Ни чемоданов, ни сундука, ни походного гарема, ни секретарей. Никаких домашних или прирученных животных. Никакого леопарда. Никакой экипировки для охоты, гольфа или тенниса. Ни лука, ни арбалета, ни саксофона, ни «Страдивари» для генеральной репетиции перед каким-нибудь соревнованием, фестивалем или конкурсом «Золотая Роза». Не было также и того, что указывало бы на причастность клиента к какой-нибудь конференции, к какому-нибудь конгрессу, — импозантных портфелей из черной кожи, набитых документами и важными сообщениями. С головы до ног вновь прибывший был лишен всяких этикетов такого рода; свободен от всяческих признаков. Не было даже непременного «дипломата», скрепленного с запястьем блестящей цепочкой, — визитной карточки новой технократической клиентуры пятизвездочных отелей.
Что сбивало с толку еще больше, так это то, что в отличие от всех этих нуворишей — нефтяных королей, выпускников национальных административных школ, путешествующих политиков — всех тех людей, которые считают, что они находятся на орбите и платят очень дорого за право на ней оставаться, он явно был единственным человеком, который не играл в эту игру, отказываясь принимать участие в мизансцене. Человеком, немного уставшим от путешествия — очевидно, за ним в аэропорт Куэнтрен посылали машину — и мечтающим только о том, чтобы скорее окунуться в ванну и побриться. Он, возможно, устал, но оставлял впечатление человека, чертовски хорошо себя чувствующего. Человека, совсем не реагирующего на рассыпаемые реверансы. Словно он находится на какой-нибудь маленькой опрятной станции кантона Во. У него был вид человека, вернувшегося к себе домой: владельца, вновь увидевшего свою землю и свое ранчо, которому достаточно одного взгляда, чтобы определить, все ли на месте, нет ли каких перемен, хорошо ли работали управляющие, ухожены ли животные.
Однако самое невероятное в этой сцене, остолбеневшим свидетелем которой оставался юный коридорный, было еще впереди. Ее главный персонаж, вытащив из своего кармана кожаный чехольчик для ключей, достал из него ключ и показал его каждому из членов дирекции. И те по очереди склонялись перед этим металлическим предметом. Он производил на них такой же эффект, как если бы путешественник, прибывший с далеких окраин планеты или из-за Великой китайской стены, стал бы показывать что-то вроде императорской печати, обеспечивающей ему повсюду абсолютную власть и немыслимые привилегии. Это несколько мифический образ — весьма далекий от общих принципов, проповедуемых школой гостиничного дела, — но как показали дальнейшие события, его нельзя назвать слишком преувеличенным.