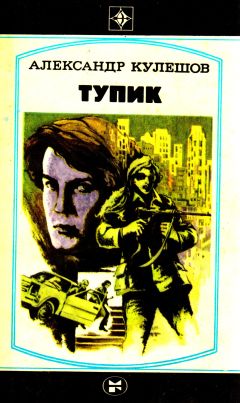В конце концов они меня все-таки уговорили. Так завели, что я чуть не побежал, как был, с ножом и вилкой в руках, протыкать того судью.
Теперь, когда я спокойно все анализирую, я понимаю подоплеку. И эти полтора месяца тюрьмы, и жажда мести, и уязвленное самолюбие, и то, что говорили Франжье и Гудрун…
И жаркий август, и роскошный ресторан, и дорогой обед, коньяк, вино, музыка.
Все, что было до того, объясняет. Все, что было потом, подтверждает. Все, что будет теперь, убедит…
…Те двое, что поехали с нами, и работали у Франжье. Одного я знал — он учился в нашем университете, другого я раньше не встречал. Крепкие мрачноватые ребята, лишнего слова из них не вытянешь. Зато Гудрун что-то разболталась.
Сели мы в ее «фиат», доехали до какой-то зеленой пригородной улочки, оставили там машину, перелезли через глухой забор (темно, время — одиннадцатый час вечера, откуда-то Гудрун узнала, что судья вернется поздно), прошли к гаражу, спрятались там за какими-то ящиками и покрышками, ждем.
Тяжелая штука ожидание. Самая трудная. Потом-то я привык. Но вначале…
В этом окраинном районе на улицах тишина. Прогрохочет вдали электричка, залает собака, прошелестит машина. Откуда-то музыка еле слышна, откуда-то — смех, детский писк.
Ждем.
В начале двенадцатого очередной автомобильный шелест не замер, как остальные, приблизился, и машина медленно въехала в гараж.
Мы быстро надели маски, пригнулись. Зажегся свет. Судья нажал кнопку, и металлическая дверь гаража опустилась.
Вот тогда мы и вышли.
Я б не сказал, что он испугался.
— Кто такие? Что вам нужно? Вы знаете, с кем имеете дело? — спрашивает. Ну и наглец!
— Знаем, — один из ребят отвечает. — Поворачивайся носом к стене и не вздумай орать.
— Не беспокойтесь, — отвечает, — но много не разживетесь, у меня с собой денег нет, и машина не новая.
Однако носом к стене повернулся. Гудрун держит пистолет.
Парень он здоровый, но ребята завели ему руки за спину, надели наручники (мы их накануне купили — они в городе на каждом углу продаются, как, впрочем, и пистолеты, и винтовки, и кастеты, и рогатки фабричного производства, и даже старые мины противотанковые, и штыки, и, если очень поискать, автоматы).
Заткнули рот кляпом, надели на голову капюшон, засунули в его же машину и поехали за город.
У меня все время было такое чувство, словно я сплю, словно это не я, а кто-то другой двигается, садится за руль, ведет машину… Я наблюдаю за Гудрун и ребятами, отмечаю каждую мелочь, их жесты, выражение лиц (маски в пути мы сняли). Они уверены в себе и спокойны. Впечатление такое, что они всю жизнь только этим и занимались.
Мы едем по пустынным ночным улицам. Стоит мне пережать на педаль, Гудрун рявкает: «Тише! Тише же! Не превышай скорость!» Ах да, я вспоминаю бесчисленные прочитанные мною детективные романы — нет водителей, которые бы так свято уважали правила дорожного движения, как преступники после совершения преступления.
Наконец мы въезжаем в темный-темный лес. Где он? В скольких километрах от города? Как мы туда добрались? Убей меня бог, если я могу ответить на эти вопросы — всю дорогу Гудрун, как лоцман, указывала мне маршрут.
Остановились. Возле озера. Наверное, того же самого, на берегу которого наш спортивный лагерь — у нас в окрестностях только одно озеро, но оно большое, бог знает, на каком мы берегу…
Выходим. Тишина прямо ощутимая, словно в сурдокамере. Так и кажется, протянешь руку — уткнешься в тишину. Но потом начинаешь эту тишину слышать: сухие ветки трещат, лягушки квакают, вода булькает, жуки гудят, птицы кричат, какие-то шорохи, свисты, стуки. Словом, тишина целиком наполнена шумом. Но это шум, который для нас, городских жителей, не слышен. Мы привыкли к грохоту воздушной железной дороги, треску мотоциклов, визгу тормозов, гудению беспрерывного автомобильного потока, гвалту толпы. Если всего этого нет, значит, кругом тишина.
То же относится к запахам. Только наоборот. Бензиновую вонь, запах асфальта, пыли, камней, толпы мы не ощущаем, привыкли. А вот запах озерной воды, хвойного леса, цветов прямо пьянит.
Ну ладно. Выволакиваем судью, бросаем его на землю.
Некоторое время смотрим на него. Я замечаю, что он в смокинге, значит, возвращался из гостей. Взошла луна, и светло как днем, и до чего же нелепо выглядят узконосые лакированные ботинки, блестящие черные лампасы на черных брюках, белая крахмальная манишка со съехавшей набок черной бабочкой в этом лунном благоухающем лесу.
Парни подходят к лежащему и принимаются за работу. Бьют ногами, выбирая места, где побольнее. Делают мне приглашающие жесты рукой. Из-под капюшона доносятся глухие крики. Потом прекращаются.
Гудрун поднимает руку, ребята останавливаются, тяжело дыша.
И вдруг мною овладевает странное чувство, похожее на жалость к этому человеку, к его нелепым черным ботинкам, скрюченному в безнадежной попытке защититься телу. И эти полтора месяца тюрьмы кажутся мне таким пустяком, в конце концов, он делал свое дело. Должен же кто-то его делать…
Гудрун наклоняется к неподвижному телу, прислушивается, торопливо снимает капюшон — она, наверное, боится, не отдал ли судья богу душу. Я стою рядом — эдакий величественный монумент, словно отлитый из бронзы, в четком, ясном, голубом свете луны. (Таким, во всяком случае, кажусь себе я сам.)
Вздрагиваю. Мне кажется, что сейчас я увижу бледное лицо мертвеца. Но то, что я вижу, оказывается еще страшней — это ясный, полный ненависти взгляд широко раскрытых глаз судьи, устремленный на меня.
Ребята и Гудрун в стороне, а я на виду. Он, конечно, узнал меня. Один этот его взгляд обойдется мне в десять лет тюрьмы! И тут меня охватывает ярость. Почему все так получается! Почему нужно было идти на эту дурацкую демонстрацию, а полицейским ее разгонять, а мне с ними драться, а судье приговаривать меня к тюремному заключению, а нам его избивать, а ему меня узнавать, а луне светить, а… А, а, а!..
Что делать? На этот вопрос отвечает один из ребят:
— Он тебя узнал, Ар, теперь его нельзя выпускать. Надо кончать.
— Сволочи, вы за это заплатите! — неожиданно громко кричит судья, кляп выпал у него изо рта. — Я тебя найду, я тебя запомнил, мерзавец, я вас всех найду!..
Хлопает выстрел, странно тихо хлопает (я и не заметил глушителя). Судья дергается и замолкает. На белой манишке растекается красное пятно.
Теперь ребята меня не замечают. Они действуют быстро и ловко. Тот, что стрелял, возвращает пистолет Гудрун. Они хватают тело, снимают наручники, тащат к озеру, привязывают к ногам домкрат, который Гудрун достала из багажника и бегом принесла им. Раскачав, швыряют тело в озеро. Раздается глухой всплеск, частое бульканье, и вновь наступает тишина. Только высоко в небе с тихим рокотом проплывает самолет с американской военной базы.
— Поехали, — деловито говорит Гудрун. Мы все (я — как автомат) усаживаемся в машину и едем в город. Машину бросаем недалеко от дома судьи. Ребята уходят. Молча. Не простившись. Мы с Гудрун едем домой.
Прежде чем сесть в машину, Гудрун тщательно вытирает пистолет и спускает его в водосток.
Когда мы входим в дом, на дворе начинает светать. Гудрун неторопливо заваривает чай, съедает кучу огромных бутербродов, яичницу, кусок холодной курицы. Все это молча. Потом уходит в ванную и долго плещется там под душем. Наконец ложится в постель. Я, сбросив где попало одежду, уже лег и притворяюсь спящим. Она гасит свет, и вскоре я слышу ее тихое, ровное дыхание. Она безмятежно спит, как человек, честно и плодотворно проведший свой рабочий день.
Что касается меня, то сна ни в одном глазу. Без конца четкой вереницей проходят картины этой ночи.
В какой-то момент я ощущаю такую тоску, такую боль в груди, что встаю, иду на кухню, выпиваю из горлышка две бутылки пива.
Значит, вот она, борьба, о какой мне говорил Франжье. В эту ночь я перешел Рубикон, я стал по другую сторону баррикады, пересек водораздел… Идиотская фразеология! Почему не называть вещи своими именами? Я стал преступником, соучастником убийства. И винить-то некого… В чем я могу упрекнуть Гудрун и ребят? Ведь они все это делали ради меня. За меня мстили. Рисковали. И убили тоже ради меня, не их — меня ведь узнал судья. Так кого ж упрекать? Кто истинный виновник?
Потом у меня в голове появляются совсем уж дурацкие мысли. Мне начинает видеться какая-то чертовщина. А не спектакль ли все это? Заранее и хорошо продуманный сценарий? Почему Франжье не стал защищать меня в суде? Почему сам (непривычная честь) пригласил с Гудрун на обед в роскошный ресторан? Почему они насели на меня с этой местью? И кто так тщательно продумал и подготовил ее? (Зная, что я на это не способен.) И (уж совсем бредовая мысль) когда Гудрун сорвала с судьи капюшон, не знала ли она заведомо, что он в сознании и увидит меня и узнает? И не будет тогда иного пути, как убить его? Сделали меня соучастником, а значит, окончательно прибрали к рукам?…Словом, чего только в голову не лезет.