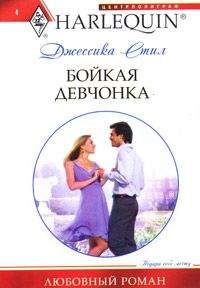Отец собрал крышки в сетку, связывал разорвавшиеся ячейки. Сын понаблюдал издали, подошел ближе. Что-то хотелось все-таки сказать, да так и не знал что.
— Пошел я, — проговорил он.
Отец долго смотрел, собирался с мыслями.
— Поедешь, что ли?
Сын дернул плечами.
— Это… Я там сказал… — пробормотал неловко отец. — Мать я всегда… всегда уважал. Всегда.
Сын постоял еще, двинулся было к отцу, рука потянулась вперед, но как-то замельтешила, будто ненужная, лишняя. Стыдливо, коротко махнул и торопливо, твердо зашагал побыстрее с глаз отцовых.
Сын скрылся за ближайшими густыми зарослями. Отец довязал последний порыв на сетке, поднялся, пошел берегом, свернул на аллею. Перед ним открылся длинный пустынный зеленый сквозной проем. Ноги сами понесли его, быстрее, быстрее, побежали. Скоро оказался на широкой улице среди людей. Но и это не помогло. Люди сновали вокруг, обтекали, а ноги не хотели замедлять шаг. Он шел напролом и злился, когда кто-то мешался на пути. Нетерпеливо вышагивал взад-вперед на автобусной остановке. Не выдержал, отмерил пролет до следующей остановки. Как раз его догнал автобус. Лязгнули за спиной дверцы. Присел, тотчас вскочил, вцепился в поручни. Не замечал, как люди косились на его перепачканное, со ссадиной поперек челюсти лицо. Автобус, казалось, ехал вечность. Он вконец измаялся, пока дождался своей остановки. По возможности неторопливо спустился со ступенек. Направился сдержанно узкой улочкой. Ноги сами опять удлиняли, ускоряли шаг. Ступни с неприятным ощущением пробуксовывали по булыжнику. Смеркалось. Резко, на глазах, как всегда на юге, белый день сменялся ночью. И так же, как южная темень, враз нагнало его все-таки это тягостное, жуткое, незнакомое… Сцепило тело. Алексей Ладов встал посередь дороги. Куда он? К кому? Кто ждет его? Упади, помри сейчас тут — никому нет дела! Нет, неохота, не согласен, чтоб за ноги да на свалку! Сжалось сердце в комочек, расширилась, разошлась, распирала грудь пустота. Бьется крохотным воробушком сердце в бесконечной этой пустоте, тонет, кричит одно — нет никого! Тоска, неведомая доселе, скопившаяся за жизнь, смертная тоска… Нагнала, накинулась разом. Он повернулся и понуро зашагал прочь…
По ночному городу метался пожилой человек. Был он на вокзале, в аэропорту. Долго петлял по карагачевой роще. Кричал, сотрясая тьму жутким своим голосом, звал: «Витя, сын, ответь, если слышишь?..» Присаживался на скамейки, недвижно и сосредоточенно смотрел перед собой, покачивался бездумно из стороны в сторону, стискивал голову руками… Сетку с крышками он где-то оставил. И когда обнаружил, что в руках чего-то не хватает, не сразу сообразил чего. И очень удивился, когда не смог вспомнить, где он забыл сетку, не смог установить, где вообще побывал за ночь. Зато на одной из скамеек он нашел старую форменную фуражку. Он имел странное обыкновение подбирать старые вещи — как-то было жалко, что годная еще вещь пропадает. Отстирывал, перешивал, перелицовывал, если надо, и носил. А к форменной военной одежде старого образца у него до сей поры сохранилась мальчишеская страсть. Примерил фуражку, подошла, нацепил и некоторое время ходил очень довольный, пока не забыл о ее существовании на голове.
Рассвет захватил Алексея Ладова сидящим на широком гладком пне у обочины тротуара, неподалеку от ветвистого карагача. Его обычно гладко выбритые щеки покрылись за сутки густой черной с проседью щетиной.
Дворники метлами зашаркали по асфальту, заспешил с повозками, с лукошками, мешками базарный люд…
А пожилой, заросший щетиной человек все сидел на пне. Солнце пригревало. Он снял теплую фуражку, положил перед собой. Из людской спешащей череды тут же отделилась перекошенная, сердобольного вида женщина, подошла к небритому, разбитому какому-то, растерзанному, хотя и здоровому с виду, старику, бросила в картуз перед ним денежку. За ней еще свернул человек, кинул монетку. Алексей хотел было крикнуть, остановить, задать трепку, но не открыл рта. Посмотрел на медяки, медленно, осторожно, боязливо как-то перевернул фуражку. Посидел, схватил, нацепил на голову. Опять снял, помял в руках, поглядел по сторонам, поискал, куда бы ее отшвырнуть… Тротуар уже заполнился людьми, неслись, сновали вовсю по дороге машины… И сквозь мельтешащую толпу, сквозь поток машин человек на пне, с зажатой в руках поношенной форменной фуражкой увидел, физически почувствовал взгляд двух припухших, пожелтевших от бессонной ночи глаз. Изможденный взгляд родных, сыновьих глаз…
Солнце светило такое… Смотреть нельзя — слезы! Обычное, впрочем, южное утреннее солнце. Бойко сновала, жила, словно муравейник, людная улица. Радио на столбе передавало последние известия, которые сулили миру мало хорошего. А под карагачом с растопыренными ветвями стояла старуха в цветастом переднике, по-сибирски тяжелоскулая и по-азиатски загорелая. Протягивала она пучки налитой от спелости редиски и то и дело косилась на странного мужика, который занял пень ее законный и теперь напружинился и уставился куда-то через дорогу, на другую сторону улицы, где маячила устало склоненная набок длинненькая фигурка патлатого паренька.
Двое напротив, небритый, расхристанный мужик и неухоженный, измочаленный какой-то парень, оба плечистые, лобастые, отец и сын, напряженно, неподвижно вглядывались друг в друга. Одиночество — в одиночество, надежда — в надежду…