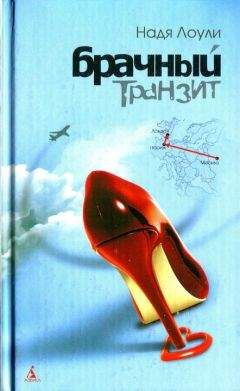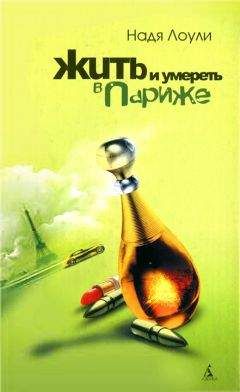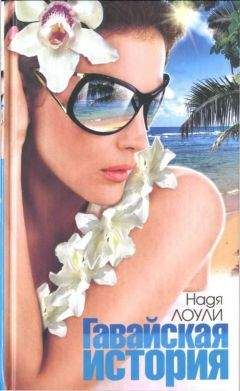ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Месяц она честно ждала обещанную комитетчиком жестокую ностальгию. Но ничего такого не последовало. Алька даже испытала нечто вроде угрызений совести. Она не чувствовала ничего, кроме своей все нарастающей любви к Парижу.
Хотя, надо сказать, в первую неделю пережила шок, чуть было не перешедший в депрессию. И не в трехстах сортах сыра вместо трех, предложенных советской властью, было дело: ей и тут хватало какого-нибудь чеддера.
Но из резервации, из состояния двоемыслия (пять пишем три в уме) она попала в совершенно иную систему координат. Из двумерного пространства пресмыкающихся в трехмерное пространство прямоходящих.
Что ей светило раньше, кроме поездки в какую-нибудь заштатную страну соцлагеря, да и то после унизительной процедуры собеседования. «Как звали двоюродную тетю пятого секретаря компартии Имярекии?» Да хрен знает как ее там звали!
Почему этот мир был доступен только дипломатам, их откормленным деткам и министерским теткам в кримпленовых костюмах? Да еще престарелым генсекам с их толстыми женами. На что им был этот воздух, пропитанный золотой светящейся пылью искусства?
Альке хотелось кричать на манер плененного Безухова-Бондарчука: «Кого? Меня? Меня не пускают? Мою бессмертную душу не пускают?!» И далее по тексту — звездное небо в разрывах туч и многократно повторенное громоподобное: «Ха-ха-ха! А-ха-ха-ха!»
Она бегала смотреть, как течет под мостом Мирабо Сена, бродила до полного изнеможения по улочкам Монмартра, стояла у окон и террас бесчисленных «брассери», наблюдая, как парижане обедают или просто пьют дежурный «пти блан сек», слонялась по набережной Монтебелло, до ряби в глазах разглядывая книги и альбомы на лотках букинистов, нарочито безразлично прогуливалась мимо бесчисленных дорогущих бутиков на улице Георга Пятого, с жадностью наркомана вдыхая умопомрачительные парфюмерные запахи.
Гуляя по Парижу, Алька часто вспоминала Стефана. Все же эта смесь из безумной любви и чудовищной обиды крепко отравила ее кровь. Во всяком случае, думать о Стефане равнодушно она до сих пор не могла. Ей хотелось, чтобы все (а он в первую очередь) узнали, через что ей пришлось пройти, сколько унижения и страха вытерпеть. Но главное, она хотела, чтобы он и все, все знали, что она не сломалась, что сейчас она — молодая, красивая, свободная — идет по одному из самых прекрасных городов мира и впереди у нее целая жизнь.
Порой эти мысли принимали довольно причудливый характер. Алька фантазировала, как однажды на Елисейских Полях встретит оборванца с протянутой рукой, чем-то отдаленно напоминающего Стефана. Но это и окажется Стефан, заброшенный в Париж бурной переменчивой судьбой, и он признает ее в роскошной светлоглазой парижанке и будет плестись следом, умоляя о прощении, но она уйдет, даже не повернув гордой головы… Вот так!
Иногда Алька часами каталась по городу в обычных автобусах или в состоянии какого-то транса замирала, облокотившись о парапет набережной. И кто-нибудь из сострадательных парижан непременно останавливался возле нее и спрашивал:
— Şа va bien, madame?
Бьен, бьен, еще как бьен! Если я не сиганула в Неву или Москву-реку, то уж в Сену точно не прыгну.
Свою двухкомнатную квартиру в Шенневьере Кристиан сдавал в аренду, а сам жил в небольшой мансарде на улице Тэте (Веселья!). Это вполне богемное жилье, соответствующее его профессии, досталось ему по наследству от прадеда, оперного певца. Из всей мебели только разбитое пианино Кристиан, въехав, заменил на роскошный «Бехштейн» и зажил, прекрасно себя чувствуя в интерьере начала двадцатого века.
Теперь здесь жила и Алька.
Часто, просыпаясь среди ночи, она подходила к окну и смотрела вниз, на узкую улочку Тэте, где жизнь никогда полностью не замирала: из «Бобино» запоздно расходился народ, а в пяти минутах находился бульвар Монпарнас, и даже конец ноября с его частыми дождями не мог заставить парижан отказаться от привычного образа жизни.
Утром она делала мелкие хозяйственные закупки, потом гуляла по городу, осматривала музеи, в два они обедали вместе с Кристианом в каком-нибудь итальянском или греческом ресторанчике.
Иногда работа (он ставил сразу два музыкальных спектакля в театре на Елисейских Полях и преподавал в Консерватории) не позволяла Кристиану вырваться даже в святое для французов обеденное время. И тогда Алька перекусывала одна в каком-нибудь из бесчисленных кафе Латинского квартала, а потом шла учить французский язык в вечернюю школу для взрослых, что располагалась в Девятом округе Парижа, при мэрии, недалеко от площади Святого Августина.
Совершенно незнакомый язык давался ей на удивление легко. Может, что-то осело на генетическом уровне — все же родители Екатерины Великой свободно изъяснялись на языке Вольтера.
Иногда после занятий Алька заглядывала в одно из кафе на площади Пери. Поглощая очередной умопомрачительный французский десерт, она повторяла в уме глаголы. В кафе (как, впрочем, и в магазинах) она всегда заставляла себя говорить исключительно по-французски, а не изъясняться на пальцах или английском, который здесь, кажется, не слишком жаловали.
И самое большое удовольствие, даже большее, чем от поглощения десерта, доставил ей комплимент симпатичного официанта:
— У вас такой прелестный акцент, мадам!
Была середина декабря. По бульвару Мальзерб, поддавая носком туфли оставшиеся желтые листья (ау, Летний сад!), Алька дошла до Мадлен (так парижане фамильярно именовали храм в честь Марии Магдалины). Оттуда вышла на улицу Рояль, пересекла площадь Согласия и по мосту Согласия же — Сену. Потом на улице Бак постояла у витрин антикварных лавок, возле метро купила букет ярких и пряных осенних астр, свернула на Распай (надо же, когда здесь ходила Ахматова, бульвар был еще не до конца проложен!)… Двадцать минут — и она дома.
Этот пешеходный маршрут Алька придумала себе не только потому, что любое соприкосновение с Парижем доставляло ей почти чувственное наслаждение. Теперь она старалась оттянуть на как можно дольше возвращение домой.
Только месяц после ее приезда их отношения с Кристианом были чем-то похожи на супружескую жизнь. Три недели назад она обнаружила в их доме следы пребывания другой женщины. Алька сделала вид, что ничего не заметила. Через несколько дней история повторилась. Было совершенно очевидно, что в ее отсутствие Кристиан приводил подружек.
Не то чтобы эта новость ее безумно огорчила. Ведь, в конце концов, они никогда не говорили друг другу слов любви и не клялись в верности. Экстремальная ситуация, в которой они оказались в Москве, предопределила ход событий. А именно: Кристиан выполнял по отношению к Альке какой-то лишь ему ведомый долг чести, а она, в благодарность за это, готова была стать для него преданным и нежным другом. И вот теперь это хрупкое равновесие в их совместности было нарушено.
Она поднялась пешком на их пятый этаж. Не стала открывать ключом, а на всякий случай позвонила. Услышала, как Кристиан, напевая что-то, идет по коридору. Он распахнул дверь, просиял приветственной улыбкой, поцеловал ее в щеку и, кивнув на букет, воскликнул:
— Pas mal!
Конечно, неплохо. Плохо для Альки оказалось то, что Кристиан был не только благороден, но и по-французски легкомыслен. Он продолжал оплачивать ее учебу, счета, давал деньги на карманные расходы, помог оформить все необходимые для жизни во Франции документы, был ласков, то есть, можно сказать, вел себя безупречно. Но все чаще и чаще он возвращался за полночь. Несколько раз и вовсе не явился ночевать. И даже не счел нужным объясниться по этому поводу. А может, и правильно сделал.
Рождество прошло тихо. Новый 1986 год они встретили вместе, во втором часу к ним нагрянули его друзья. Было весело и пьяно. Потом жизнь пошла по-прежнему.
Через месяц Алька собрала вещи и сказала, что уходит. Она действительно решила перебраться к Ларисе, своей новой приятельнице, с которой они познакомились на занятиях в вечерней школе.
— Но как же так, Алекс!
Кристиан всплеснул руками, сказал, что не может ей этого позволить, переживал изо всех сил, но потом как-то успокоился. А когда Алька с благодарностью согласилась принимать от него ежемесячное небольшое пособие, даже воспрянул духом. Все правильно. Главное, чтобы условия игры были соблюдены.
Жизнь в «приживалках», хотя она вносила свою долю в оплату квартиры, оказалась не сахаром. Совсем не сахаром. Алька, которая привыкла все время быть сама себе хозяйкой и не попадать в мелочную зависимость на бытовом уровне, впервые поняла, почем фунт лиха.
Лариса была, конечно, доброй и милой. Во всяком случае, старалась, как могла. Однако чуткая Алька ежедневно ощущала на себе ее прессинг. Вольно или невольно Лариса показывала, кто в доме хозяин. Оставленная на столе чашка, открытая форточка, долго горящий по ночам свет, не вовремя включенная стиральная машина — все могло послужить поводом для мягкого, но все же упрека. И служило.