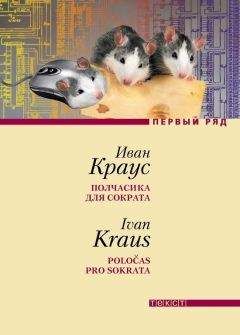И писатель испытывает подчас неописуемое состояние.
17 июля.
Мне приснился критик. Он толкал перед собой коляску, набитую пишущими машинками. И что самое ужасное: ел при этом черешню.
15 августа.
Нюссбаум сидел в кафе и делал вид, что мечтает. Я выждал в гардеробе, и мое подозрение полностью подтвердилось. Нюссбаум, естественно, вовсе не мечтал.
5 сентября.
Не исключаю, что иногда можно написать что-нибудь и о своей интимной жизни. Скажем, о своих проблемах с пародонтозом.
20 октября.
Гитлер был вегетарианцем. Сталин заставлял пробовать свою еду.
А Эйнштейн играл на скрипке. Из этого можно заключить многое, но не хотелось бы делать поспешных выводов, прежде чем я приступлю к большому эссе.
3 ноября.
Ни за что не становиться рабом никого и ничего. Даже дневника! Вернуть налоговому консультанту его поэму «Декларация» и вычесть почтовые расходы из налогов.
1 декабря.
Нюссбаум стоял на остановке трамвая и делал вид, что ждет его. Мне, конечно, ясно, что он стоял там только для того, чтобы видеть оба тротуара.
Я делал вид, что гуляю, но на самом деле я шел домой.
7 декабря.
Я просто подожду, когда появится побольше замыслов, а потом запишу все сразу.
31 декабря.
По причинам личного характера, которые я не обязан указывать в дневнике, я принял решение взять паузу и не писать некоторое время.
Редакция немецкой газеты решила взять у меня интервью. Для этого они прислали в Париж молодого журналиста, представившегося Гансом. С ним приехала его подруга Инге. Мы встретились в одном ресторане недалеко от Елисейских Полей, и я предложил молодым людям для начала перекусить.
— Можно, — сказал Ганс.
С первого взгляда было видно, что он человек сдержанный, не похожий на бойкого репортера.
Во Франции не принято сразу переходить к делу, не обменявшись парой светских фраз, поэтому я дал молодым людям спокойно съесть закуску. Лишь спросил из вежливости, как они доехали.
— Хорошо, — сказал Ганс, поглощая улитку. Через две улитки я поинтересовался, сколько они добирались.
— Пару часов, — ответил Ганс, сосредоточенно извлекая очередную улитку из раковинки.
— Пять, — уточнила Инге, проглотив помидорку.
Я отметил ее наблюдательность и склонность к точности: это те черты, которые я ценю в молодежи.
За горячим я подумал, что Ганс, этот хорошо воспитанный молодой журналист, пожалуй, и приступил бы к интервью, но не решается, потому что не хочет отвлекать меня от еды. Чтобы избавить его от этих условностей, я намекнул, что не буду возражать, если он захочет задать мне вопрос.
— Ясно, — сказал Ганс, усердно разделывая телятину.
С целью создания непринужденной атмосферы я спросил Инге, чем она занимается.
— Учусь, — тихо ответила она, не поднимая глаз от форели.
Я выждал, пока она расправится с костями, и спросил, что она изучает.
— Социологию, — выговорила она со вздохом и посмотрела на меня с легким удивлением.
Я сообразил, что мой вопрос, в самом деле, был лишним. Большинство молодых людей в Германии изучают социологию.
За очередным блюдом я спросил теперь уже Ганса, нравится ли ему работать в газете.
— Если бы не стресс, — ответил он чуть слышно, разрезая стейк на две части.
Мне было любопытно, пользуется ли он, беря интервью, магнитофоном или делает записи в блокноте, но я не хотел его нервировать и решил подождать до сыра.
Ганс явно не ожидал от меня вопроса, поэтому в ответ лишь пожал плечами. Мне подумалось, что он не пользуется ни магнитофоном, ни блокнотом, а делает записи каким-то новым, доселе не известным мне способом.
Чтобы не вызывать у него стресс, я дождался сладкого. А потом спросил, будет ли он столь любезен и пошлет ли мне интервью для проверки.
— Конечно, — ответил он, не углубляясь в детали. Впрочем, ему было не до того. Он как раз разворачивал сахар, чтобы бросить его в кофе.
Взглянув украдкой на часы, я спросил, пришлет ли он мне вырезку с моим интервью, когда оно выйдет.
— Обязательно, — ввернула вдруг Инге, хотя мой вопрос помешал ей отправить в рот пирожное. Это было любезно с ее стороны, ведь своим нескромным вопросом я нарушил ритм поглощения вожделенного куска.
Спустя час с четвертью я спросил у Ганса, как он обычно начинает интервью.
Он слегка задумался, как человек, не привыкший давать быстрый или необдуманный ответ. Потом ответил, что начинает интервью, как придет в голову.
Я ожидал, что мой вопрос как-то подтолкнет его к тому, что он достанет ручку и бумагу, но он не шевельнулся.
— А как вы, собственно, попали в газету?
— Случайно, — ответил он.
Ганс, подумал я, принадлежит к поколению, экономящему не только действия, но и слова.
— Случайно?
— Там было место, — объяснила за друга словоохотливая Инге.
— А давно вы уже работаете в редакции?
— Порядком, — вздохнул Ганс устало.
Поскольку у меня сложилось впечатление, что наше интервью продвигается неплохо, я задал ему еще ряд вопросов.
Постепенно мне удалось выудить из Ганса, что в редакции он три года. Газета выходит раз в неделю. Ганс работает с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье выходной. Отпуск полтора месяца. Есть тринадцатая зарплата. Рабочий день с восьми до пяти. Перерыв на обед один час. На первом этаже вахтер. Парковка подземная. Тексты пишет от руки или печатает. Ничем не увлекается.
Извлечь всю эту информацию из человека, приехавшего брать интервью у меня, было непросто.
Потому, посчитав, что в газете, где работает Ганс, будут, несомненно, рады занятным сведениям о своем сотруднике, я отправил это интервью прямиком в редакцию.
(Старинное чешское предание гласит, что в глубине горы Бланик дремлет рыцарское войско. Когда настанет самое тяжелое время, проснутся рыцари, выйдут из горы, и святой Вацлав на белом коне поведет их на помощь чехам…)
Над Блаником сияло солнце. В пещере было уютно. Рыцари восседали вокруг стола и просматривали поступившую почту.
— Друзья, — возвестил Моймир, который вел заседание, — к нам опять поступила масса писем с просьбой о помощи.
— Люди вечно недовольны, — вздохнул Вратислав.
— И то правда, — поддакнул Радуз, — они жалуются всегда, когда меняется режим. Вспомните сорок восьмой год.
— Пишут, что растет преступность, — молвил Моймир, заглядывая в одно письмо.
— Это дело полиции, — откликнулся Крутинога.
— Много жалоб на растущее влияние мафии, — поведал Моймир.
— Типичная проблема свободного рынка, ничего не поделаешь, — изрек Кветослав, в свободное ото сна время почитывавший иностранную прессу.
— Многие переживают, что у молодежи плохо с моральными устоями, — продолжал Моймир.
— А когда было хорошо? — вскинулся Анастас. — Нравственность военной операцией не поднимешь.
Моймир перебрал очередную пачку писем и почесал в затылке.
— Нарастает-де расизм.
— Это вопрос воспитания, — рассудил Зруд.
— Вообще-то я бы особо не напрягался, так как договор четко определяет, когда мы должны покинуть пещеру и идти на помощь, — промолвил Православ.
— Когда станет совсем худо, — хором отозвались несколько рыцарей из глубины пещеры.
— Вопрос только в том, что под состоянием «совсем худо», в сущности, понимать, — осведомился Мната, который своим философствованием подчас действовал всем на нервы.
— Совсем худо — это когда голод, а сейчас народ не голодает, — провозгласил с набитым ртом Хрудош.
— Необязательно быть голодным, чтобы ощущать несовершенство бытия, — воспротивился вдумчивый Мната.
— Нечего умничать, — разбранил его Гневса, — люди не голодают, могут путешествовать и говорить, что думают.
Слово взял Православ:
— Договор строго устанавливает положение, при котором мы должны вмешаться. Когда народу будет совсем худо. Разумеется, правовое наполнение условия может произойти только в том случае, если мы сами придем к заключению о том, что настала инкриминируемая ситуация. Что касается народа, последний может просить о помощи как в индивидуальном порядке, так и в форме коллективных обращений, но ни в коем случае не вправе таковую требовать… Речь идет, по сути, о договорном обязательстве на время действия упомянутого договора.
— Ничего не понял, — проворчал Страхош.
— Сейчас растолкую, — продолжал Православ, глядя в какие-то бумаги. — Речь идет об обязательстве, которое не может быть расторгнуто нами в одностороннем порядке, но которое вместе с тем не подлежит опротестованию противной стороной, то есть чешским народом, его представителями или же доверителями. Так что, в случае невыполнения обязательств, народ не может подать иск или взыскать неустойку.