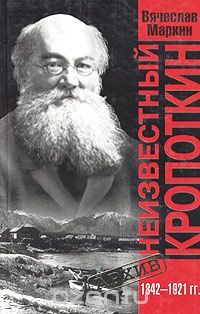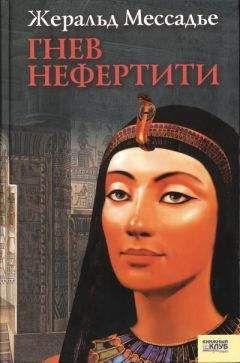Не исключено, конечно, что женщина, которой я хотел бы быть, должна быть способна на подвиг — например, на обретение мужчины с еще более высоким уровнем тестостерона и, соответственно, более высокими жизненными притязаниями.
Правда, управлять таким мужчиной — все равно, что варить суп на костре — увлекательно, но можно запросто обвариться. Но я ведь был бы еще и ловкой красивой умной женщиной, и, если капли кипятку и упадут на мою нежную кожу, то я, конечно, смогу представить все нужным образом — непрошеной слезой в прекрасных глазах или смешком: «Ах, вот видишь, какая из меня кухарка! Пора бы нам повара нанять!».
Нетрудно догадаться, что красивой умной женщине просто на роду написано быть богатой, иначе мир неохотно ляжет к ее ногам — а тогда на фига весь этот сыр-бор?
Если уж воображать себя женщиной, то лучше такой: красивой, умной, богатой, ловкой. Да и веселой она тоже должна быть.
Непростая, в общем-то, задача. И как это у вас получается?
Где она училась — не знаю, где работала — не ведаю. Я ее в глаза не видел и понятия не имею, как женщина выглядит, хотя это единственное, что меня в ней более-менее интересует. Наверное, стоило бы посмотреть, какую часть себя она передала по наследству. Женщина, которую я вряд ли когда-нибудь увижу, мне не нравится. А сын ее, Петя — очень.
Она, вероятно, невысокая, черноглазая, тонкокостная — если внешностью сын в нее. Вряд ли суетлива. «На даче своей лежит целыми днями. Гороскопы читает», — как-то рассказывал мне Петя, сам похожий на муравья, занятого бесконечным обустройством своего камерного мирка.
Она лежит, а он даже дверные косяки в квартире своими руками установил, хотя ему по карману было бы просто позвать мастеров. Пете нет и сорока, а работать ему, в общем-то, уже необязательно: он умен, решителен и, наверное, удачлив.
Деньги у Пети есть, а до матери дозвониться он не может.
— У нее включен автоответчик. Я позвонил перед приездом, — нервно поправляя очки, рассказывал он. В прошлые выходные мы по саду гуляли, и я спросил, как прошла его поездка в родной город. — В воскресенье подошла к трубке, говорит, что уезжает на дачу. Могла бы и в понедельник поехать, она же пенсионерка, у нее каждый день — воскресенье, а мне назад уезжать.
— И давно у вас это началось? — спросил я.
— Как сказал, что мы с Сережей не только друзья, тогда и началось.
— А прежде она с Сережей дружила, — мне была уже известна эта часть истории, но не грех было и повторить.
— Да, — с азартом поддержал Петя, — ходили вместе по магазинам. Созванивались. Он у нее в гостях был.
— А теперь, как отрезало.
— Она считает, что Сережа меня совратил.
— Бред, — я прыснул. Смешно было воображать себе уютного мягкого Сережу в роли рокового соблазнителя. — А прежде как у тебя с ней было?
— Все было прекрасно, — заверил он, но тут концы с концами не сходились: немыслимо, чтобы мать, эдак, разом порывала с собственным сыном. Или, во всяком случае, мне категорически не хочется в это верить.
— Зато я с сестрой повидался, — сказал он.
— У тебя есть сестра? — я удивился.
— По отцу. Мы сродные.
— Сводные.
— Нет, сродные, — поправил он, по обыкновению дотошный. — Мы кровные родственники. По отцу.
— То есть с отцом ты видишься?
— Редко. Он работает, хотя ему уже семьдесят лет. В детстве, после развода, она не подпускала его ко мне. Запрещала нам встречаться. А теперь говорит, что я весь в него.
Я застонал. Все люди такие разные, а способ сведения счетов один и тот же.
— Неужели не ясно, что, отыгрываясь на детях, ты рикошетом бьешь по себе? Разве твой ребенок станет счастливее, если будет знать, что родился от плохого человека?
Я подумал про свою мать. Она тоже одно время казалась мне чужой, а когда мы снова начали разговаривать, готовность к примирению объяснила просто, буквально двумя словами. «Любить надо», — сухо сказала она. Любить.
— Хоть бы она книжки почитала, что ли…
— Бесполезно, — уверенно сказал Петя. — Она еще в религию ударилась.
— Замаливает твои грехи? — я рассмеялся, а затем снова вспомнил историю, которую поведали мне Петя с Сережей. С нее, кстати, я и стал интересоваться у Пети, как там дела у него и его мамы.
Тогда в их отношениях наметилось потепление. Петя с Сережей позвали маму к себе в гости на зимние праздники. Все было хорошо, пока не пробило полночь. «Дети мои! — примерно так сказала она под бой курантов, подняв бокал с шампанским. — Я желаю, чтобы в Новом году вы пошли к врачу, вылечились, и женились по-человечески». Не разговаривали два дня, а на третий день она уехала домой, в другой город.
— А другие дети у нее есть? — спросил я.
— Нет.
— Тогда все наладится. У нее выбора нет, — уверенно сказал я, хотя ни в чем уверен не был: в Петиной суете мне временами чудится боязнь — желание укрыться от недоброго, враждебного мира, упаковаться, обложить себя ватой. Кипучая жажда дома, семьи. А зачем еще так настойчиво добиваться внимания матери? Зачем стучаться, если закрыто?
— Хороший он у тебя, — сказал я Сергею чуть позже, когда начался дождь, мы укрылись под навесом, а Петя все прыгал вокруг чадящего гриля, пытаясь спасти говяжьи стейки. — Стеклянный мальчик.
— Почему?
— Не знаю, — соврал я. — Ему подходит этот образ.
Сергей промолчал, а я заговорил о странностях материнской любви.
— Любовь матери физиологична, — выговаривал я под мерный стук дождевых капель. — Так природой запрограммировано.
— Ага, конечно, — прервал меня Сергей. — Ты почитай, то одна ребенка бросила, то другая.
— Ну, это ведь исключения.
— Потому и не бросают, что муж не дает, — Сергей улыбнулся, давая понять, что несерьезен.
— И чего его матери не хватает? Петя не бедный, и не подлец, и не дурак…
— Вот, в том и дело. Был бы пьяница-наркоман, все было бы по-другому.
— Думаешь?
— Уверен.
— Если можно не жалеть, то зачем, спрашивается, жалеть…
Нет, не знаю, не ведаю и не узнаю ни-ког-да.
Я все понял про них довольно поздно, зато разом. Новое знание явилось, как нежданный гость — звяк, а вот и мы. Маша и Даша.
— Вы прямо как сестры, — говорил я, не особенно раздумывая, насколько слова мои близки к истине.
Вначале была Даша — и нос вполне античный, и крупный подбородок, и грудь — небольшая, но тоже торчком, и плоский, почти ввалившийся, живот под ней, и бедра, пожалуй, несколько крупноватые, но литые, уместные в этом небольшом теле — аппетитном, да, именно так и надо его называть.
У Даши — творческая профессия, а я писал про творческие профессии в местную газету. Мы подружились с ней. Я любил глядеть, как несет она себя людям на своих высоченных каблуках, мелко переступает, выдвигая бедра и так, и эдак. Я называл ее обувь «копытами». Она, довольная, смеялась — сильно, громко, упругими мячиками с небес.
Даша была актрисой, профессию получала в местном училище, но преподносить со сцены могла только саму себя — яркую, сильную, тугую. Я помню ее дипломный моноспектакль, она играла роковую женщину, застывала живописно, как артистка немого кино, раскорячивалась и на одном стуле, и на другом, и длинные темные волосы змеились вдоль белого лица. Ее хвалили, но на первые роли все же никто не позвал. Город был мал, все театры были забиты своими комиссаржевскими.
— Привет, ты понюхай, — сказала она, ткнувшись в меня своей гривой. Мы встретились на улице, она только что выбралась из машины. — Пахнет?
— Чем?
— Табаком. Все курят, сколько раз говорила, купите же кондиционер, дышать невозможно. Какой я вам администратор, я пепельница…
С ней была девушка. Худая, бледная, в чем-то официальном, без всякой краски на лице. А может мне так показалось из-за яркости Даши, которая в ту пору не скупилась на цыганистые узоры.
Назвалась девушка Машей, сухо кивнула и прошла мимо.
Пепельницей Даша пробыла недолго. «Нет ее, уволилась. Уехала. В Москву кажись», — сообщил бармен в другой раз, когда я оказался в том заведении, по тогдашней клубной моде больше похожем на замусоренный самолетный ангар.
Уехал и я.
А перед моим отъездом (и как узнала?) мне позвонила Маша.
— Это я, — сказала она, не представившись. — Дашке посылку передать надо.
Мы где-то встретились, у Маши была большая темная машина — блестящая, похожая на ртутную каплю.
— Не бойся, она не тяжелая, — сказала она, вручая мне куль, улыбаясь, как и прежде вяло, губами почти бескровными. Косметикой Маша по-прежнему пренебрегала, да и одета была — лишь бы прикрыться — в спортивный костюм с лампасами. Да, мы, наверное, встретились вечером, она вышла из дома в чем была.
Дашу я узнал не сразу. Она стояла, где договаривались, у колонны в метро, кажется, на «Пушкинской». У нее был потерянный вид, она оглядывала людей, одного за другим, а сама выглядела как-то для себя несвойственно — по-сиротски. В пальто бордовом, какого-то особенно нелепого покроя. Наверное, сама Даша чувствовала себя в нем нелепо, и это чувство легко передавалось другим. Она казалась несчастливой, но говорить ей об этом я, конечно, не стал. Я дал ей свой новый телефон, мы договорились созваниваться, а потом возникла пауза длиной, наверное, с год.