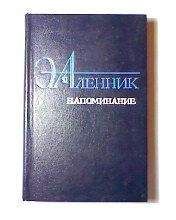Нехотя возвращали оружие. Не могли в толк взять, почему Коржин так решил. А ведь не верни — вышли бы эти трое да пригнали свой отряд и разгромили бы госпиталь дочиста.
Таким Коржин сюда приехал. К делу рвется. Дело делает.
А у меня отбилась ко всему охота. Только во сне живу. Дирижирую. Чаще всего «Неоконченной симфонией» Шуберта. Просыпаюсь — другая симфония. Стоны. Крики. Курбаши в шелке и бархате по улицам скачут, кривыми саблями размахивают: бей! хватай!.. А я сижу. Решения ищу. Поверите или нет: не о себе — об общем.
С Коржиным сопоставляюсь. Умом от него не отставал. Говорил со мной на равных. Не было у него этого: ты никто, а я кто. Хотя он, как приехал, сразу за создание первой здесь хирургической больницы взялся, да так вокруг себя людей настропалил и руководство, что из частного дома скоро приличная больница с операционной получилась, и стал он в ней главным, как узбеки величали, Хируриком, а я стал у него всего-навсего счетоводом.
Вряд ли было у Коржина время думать об общем, как думал я. Мыслителем его не назовешь. Никакой он не мыслитель, а практик. Его практика известная. Благодаря точности делал он свое дело с молниеносной скоростью. А откуда эта точность и скорость берутся? От вежливого обращения с больным местом. Чтоб лишнего беспокойства и лишней секунды боли не было.
Как справедливости ни ищи, с какой колокольни, с какого минарета на нее ни смотри, а без вежливости не может быть ни в чем справедливости.
Замечали вы, что там, где не осталось вежливости, жизнь к чертям собачьим идет? Кричи во всю глотку, приказывай, грози, но вперед идти без вежливости жизнь не может. Химия — та идет. И космические скорости осваивают. А душе человека — каюк. Задний ход нашим душам…
Что-то скрипнуло, хрустнуло — не то шаткая табуретка, не то опущенные между колен руки, прижатые ладонь к ладони и крепко сцепленные пальцами.
— Тяжело мне было в то время. Плохо бы кончил, не появись тогда на горизонте Коржин. О заветном своем я с ним не говорил. В музыке он ни бе ни ме, «чижика»
на пианино одним пальцем, сам сказал, не мог осилить.
И подходил он к пианино, думаю я, не иначе как для того, чтобы дети ему закричали «неправильно!», а жена, Варвара Васильевна, зажала уши. Веселило это его и показывало, что семья в порядке.
Об общем мы говорили. Не я к нему за разговором приходил — он ко мне. И почему-то перед началом операций, с утра пораньше. Помню, высказываю я ему коечто о курсе жизни и напоминаю о времени, когда люди для справедливости и добра Христа-спасителя народили. Что же получилось, ему говорю. Не дожил Спаситель своей жизни земной по собственным заповедям. Под конец — о мече вспомнил. Потому и люди ненадолго в милосердие вошли. Довольно скоро они из милосердного состояния вышли. С мечом крестоносным встали на путь кровавой мести и докатились до пыток инквизиции.
Высказал это и спросил: в чем, где же спасенье?..
Достоевский сказал, что мир красотой спасется. А чем спасется красота, спрашиваю я? Ей же больше всех копий, стрел и всяких инквизиций достается.
Коржин сидит в моей счетоводческой комнатушке, слушает и потихоньку, как музыкант перед концертом, руки разминает. Сжал он их в кулаки и переспрашивает:
«Чем спасется красота?.. Самой же красотой». И показал десять пальцев, ткнул указательным в свою макушку и в грудь, наверно уж точно туда, где живет сердце. И пошел мыть руки да облачаться в белое с головы до пяток.
Конечно, не часто он приходил за разговором. Какое там могло быть часто, если не знал он отдыха. Днем его дел на пятерых бы хватило. Ночью ему спать не давали больные узбеки. Прокрадывались вопреки запрещениям мечети.
Приходит он как-то ко мне не в свое время, к концу дня. Не садится, а приглашает поехать с ним недалеко, но в сторону Бухары. Это уже у нас двадцатый год.
В других направлениях белые, зеленые и прочие благодаря командованию Фрунзе уже побеждены. А бухарская сторона еще битком забита вражьей силой. Еще только в конце августа Фрунзе со своим полевым штабом в Самарканд переберется и отсюда начнет управлять военными действиями. Когда Коржин меня приглашает и говорит: «Надо вам проветриться непременно», у нас еще не август, а весна и Фрунзе здесь нет.
Отвечаю Коржину:
«Не пойму, Алексей Платонович, как вас в самое пекло Варвара Васильевна отпускает и какое вы право имеете жизнью рисковать?»
«Во-первых, — говорит, — жизнь и так и этак сплошной риск. Во-вторых, Варвара Васильевна глубоко уважает главную заповедь врача: если тебя просят оказать помощь больному — дальнему ли, ближнему, умному или глупому, днем или ночью — ты должен сделать все, что в твоих силах. Иначе — не имеешь права называться врачом. Наконец, в-третьих. По сведениям присланного за мной, пекло начинается несколько дальше. В той точке земли — благодатная тишина. Но решайте как знаете.
Добавлю только, что дорога прекрасная. Не раз изучал ее с семьей, путешествуя с волчьим билетом. А лошадок прислали превосходных, и кучер, брат больного, по-видимому, не промах».
Понимал я, защита из меня никакая, не для защиты он меня звал. Как быть? Отпустить его одного в ту сторону?
Короче сказать, поехали.
Сидим рядом в пролетке. Рассчитываю я на беседу.
А он извиняется и глаза закрывает. Голова покачивается, очки и часовая цепочка на жилетке поблескивают, на коленях докторский саквояж, на саквояже соломенная шляпа солидная, но посапывать он начинает как новорожденный.
Люблю я детское посапывание. Не звук это, а что-то по дороге к звуку…
Смеркается. Темнеет неполной темнотой. Звезды высыпают не все сразу, а по своей звездной очереди. Раза два издалека что-то бабахает. Потом, и правда, тишина спокойная.
Со звездным небом не соскучишься. Слышу… мерещится мне его музыка. И слышу: бегут лошадки. Свой ритм несбивчивый земле передают.
За годы и годы злость моя на себя — за то, что способности к жизни не приложил, и на время, за то, что мешало мне их приложить, и за то, что сил у меня таких, как у Коржина, на приложение способностей к этой чертовой жизни не хватило, — эта злость в первый раз отпускает меня.
Сижу, задрав голову к небу. И не сразу замечаю, что Алексей Платонович смотрит на меня в упор, исследует в свое удовольствие.
«Ну вот, — говорит. — А вы не хотели ехать».
Доехали мы. Темнота уже полная. Хорошо, что у Алексея Платоновича всегда фонарик с собой.
Ведет нас кучер вверх по ступенчатой тропке. Потом мимо какого-то дувала. Потом по двору к дому. У дверей люди стоят. Ждут. В дверях показывается узбечка с лампой, просит в комнату. Гасим свой резкий фонарик и входим.
Лежит человек с раскрытым ртом. Страшные хрипы вырываются.
Коржин быстро из саквояжа флягу достает, спиртом обтирает руки. Женщину — потому что плачет она и дрожит в ее руках свет — просит лампу мне передать и садится на топчан к больному.
Подношу лампу ближе и вижу огромный зоб.
«А-а, помню вас, — говорит Коржин, осматривая жуткую шею. — Вы ко мне приезжали».
Не до того мне тогда было: светить старался получше, и хрипы на меня действовали. А сейчас скажу вам, что Коржин больное место лучше, чем человека, помнил и больше, чем человека, уважал. Потому что человек чаще всего — враг своему больному месту.
И тогда он сперва зобу сказал: «Вы ко мне приезжали», а потом сказал человеку:
«Что же вы, голубчик, натворили…» — и вмиг намотал на деревянную палочку вату, вычистил нос больному и по очереди сунул в одну ноздрю и в другую тампон с чем-то сосудорасширяющим, что ли. Сунул и вытащил.
Достал свою стерильную коробку, сделал укол и тяжелым шагом подошел к ждущим от него спасения родственникам.
Говорил он с ними на русском вперемешку с узбекским. Поняли они и я, что надо было этому бедняге, голубчику этому, не старому еще совсем, соглашаться на операцию, когда он к Коржину приезжал полгода назад и Коржин еще мог его спасти, а теперь поздно, осталось ему жить два, от силы три дня.
Хрипы потише стали, пореже. Между хрипами елееле выдавилось у смертника, что теперь согласен он, чтоб Хирурик отрезал то, что его душит.
Вот такое было дело. Женщины в голос плакали, но рахмат Коржину в шелковом платке, узлом завязанном, преподнесли. Взял он его. А уходя, у топчана незаметно оставил.
Ведет нас кучер к себе, в соседний дом, рассвета ждать. В нашем распоряжении клетушка отдельная, на полу земляном ковер, гора больших подушек пестрых и одеял. Жена кучера нашего вносит лепешки на чеканной тарелке. Тарелка у живота, верхнюю лепешку придерживает подбородком. Вторым заходом приносит кок-чай со всем, что к нему полагается, и исчезает как тень.
Без промедления устраиваемся на ковре, как падишахи. Рвем на куски, запихиваем в рот мягкие, вкусные узбекские лепешки, каких в Самарканде давно не найдешь, и замечаю я, что Алексей Платонович не только за дорогу нагулял себе аппетит. Хоть отрывает он куски поменьше и в рот запихивает поделикатней, чем я. Есть у него и на это терпение, у меня — нет. Знаете, у кого ко всему нетерпение? У того, кто своего дела не делает.