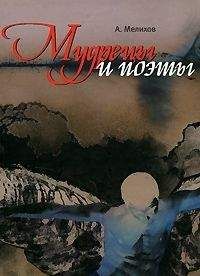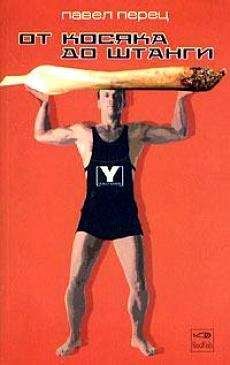Впрочем, он в последнее время много раз убеждался, что практически любое лицо, серьезное и освобожденное от мелочности, будет значительным. Подгримировывая лица новым выражением, он пытался угадать, каковы они были бы при другом воспитании, – и, в общем, все были хороши, даже недостатки могли бы приобрести своеобразную прелесть: этому пошла бы трезвая ироничность, этому умная сила, этому одухотворенность, чего сейчас и в помине нет – из-за каких-то миллиметровых сдвигов лицевых мускулов. Вот девушка – грубовата, брови сдвинуты как-то чересчур прямолинейно, темный пробор в желтых волосах, а даже сейчас взгляд взволнованно-испытующий, – очень хорошее могло бы быть лицо, с чуткой мимикой.
А кое-кого, наоборот, разгримировывал, и тоже всегда успешно, хотя бы и самое интеллигентное лицо. Ну, высокий лоб с волнистой прядью, тонкий нос, очки – интеллигентно до карикатурности, – а ну-ка, взлохматим его или подстрижем под полубокс, с чубчиком, очки снимем, наденем ватник, рот приоткроем или обескураженно опустим углы губ – и готово. Или сожмем губы в злой, бесцельной решимости, напоследок пройдемся небритостью – прямо уголовный тип: длинное скуластое лицо, тяжелая челюсть. А ну, дотронемся еще алкогольной сизостью… Или нет – все уберем, гладко зачешем волосы назад, надуем вельможностью – как можно было с самого начала не заметить, сколько в нем тупости.
В этого рода косметике Дима был неистощим, но с Юниной внешностью таких экспериментов он, разумеется, не проделывал.
Чтобы стало совсем как в кино, Дима включил магнитофон, испытывая удовольствие от небрежной ловкости, с которой он управлялся с этим элегантным аппаратом. Сквозь легкую шикарно-магнитофонную гнусавость раздались нарастающие мелодичные удары чего-то электрического, к ним присоединялись новые с уверенным и вместе спотыкающимся ритмом – кажется, это называется «синкопы», – и вот уже нежный жалобный женский голос молит: сэйв ми, сэйв ми, – это Дима понимал. Ничего неопрятного, звук, интонация – все очищенно и красочно, как в кино, и ритм непринужденный – можно даже небрежно притопывать ногой или прищелкивать пальцами, – а настоящая живая мольба, настоящая женская любящая грусть; и Диме хотелось закрыть глаза, чтобы ничто уже не мешало брать, брать прямиком в душу этот покинутый голос, без никакой-никакой неопрятности умолявший его: спаси, спаси меня, – и при открытых глазах уже отпадало одно за другим, уже мало оставалось вне этого голоса. Впрочем, может, она пела и что-то другое – Дима вообще-то слабо разбирался в английском, да и то только по написанному.
Но поскольку у свободных музыка должна служить только фоном, Дима, сделав усилие, заговорил, как бы машинально – непринужденно – выбивая такт пальцами по столу, на котором возвышалась бутылка коньяка, и покачивая носком шикарно громоздкой туфли. Ему хотелось рассказать про больного в гипогликемическом шоке, с которым он отличился на последнем дежурстве. И действовал решительно: разбудил Чугункову, которая хотела спать и поэтому считала, что без нее можно вполне обойтись, мобилизовал больных, которые тоже сначала ворчали, что к ним кладут этого психа – он сам сперва заподозрил, что тот придуривается. Там решал не он – решала должность, и на все был готов ответ: а если умрет?
Однако в рассказе пришлось бы обходить довольно много неприличных мест – в какой-то, к примеру, момент дело уперлось в то, чтобы заставить больного помочиться, – поэтому Дима стал рассказывать о последнем профсоюзном собрании. У Димы не было врачебной свободы в разговорах о неприличных предметах. Он мог еще понять больных , у которых так наболело, что они позабыли, что прилично, а что неприлично, но не мог, например, понять тех, кто открыто носит по городу гирлянды туалетной бумаги, – неужели они до того истерзались без этой бумаги?
– Вдруг берет слово Кольцов, – рассказывал Дима, рассказывал оживленно, но, как подобает свободному, иронически, будто посторонний. – Берет слово Кольцов, и пошел, и пошел.
– Все про свое? – спросила Юна, не без интереса спросила.
– Ну! – возбужденно подтвердил Дима. – Но тут встает Рубинов и спрашивает: «Кто имеет право выступать на этом собрании?». Оказывается, Кольцов вообще не имел права выступать и все-таки влез. А Рубинов встает и спрашивает: «Кто имеет право здесь выступать?».
Дима уже увлекся, забыл, что надо рассказывать как посторонний, он уже чувствовал себя Рубиновым, загнавшим Кольцова в угол. Он знал, что это смешно – рассказывать с такой заинтересованностью да еще в лицах, но, увлекаясь, часто выдавал свою гусиную сущность. Он загнал Кольцова в угол, но подлец Кольцов этак великолепно отмахнулся: не беспокойтесь, доктор Рубинов, вы имеете право, – а все, дураки, захохотали.
– Ты ведь знаешь, на собраниях все от скуки только и ждут, чтобы захохотать.
Она улыбается, но сквозь почти исчезнувшую дымку печали начинает светиться чистое умненькое негодование:
– Почему вы его терпите?
– Ого, это мы ему спасибо должны сказать, что он нас терпит, – засмеялся Дима, любуясь ею, но не забывая выбивать пальцами ритм и покачивать туфлей.
Все это было как в кино: музыка, обстановка, девушка. И все так по-домашнему – как у его отца с матерью: он рассказывает, она пришивает ему вешалку. Вешалка – это почти подштанники. Вот, оказывается, что такое свобода: снаружи как в кино, а внутри – подштанники.
Женщина на пленке умолкла, остался элегантный, четкий, уверенно сбивчивый электрический перестук. Юна прислушалась и в такт ему наметила несколько современных танцевальных движений головой и бровями. Хотя она сделала это как бы в шутку, Дима все-таки опустил глаза. Ей это не подобало, это из другой свободы, поэтому он отправил происшествие в небытие, то есть превратил в никогда не происходившее.
Юна кончила шить, полюбовалась, не перекусила, а перерезала нитку специальной бритвочкой, все уложила в коробку, поставила на место. В глазах ее снова утвердилась печальная дымка достоинства, и Дима умственно засуетился при виде ускользающей домашности.
– Как там твой рулет? – с просящей непринужденностью спросил он, пытаясь ухватить домашность за хвост, но дымка достоинства не исчезла, с ней Юна и прошла на кухню. Что произошло, Дима не понял. Может быть, ей тоже не понравилась фамильярность ее намеков на танцевальные па. А может, помилуй бог, заметила, как он опустил глаза?
Чтобы зарядиться непринужденностью, Дима с небрежной элегантностью пощелкал переключателями магнитофона, перемотал пленку обратно и выключил. Стало свободнее.
С кухни доносились железные взвизгивания и лязг противня. Дима встал и начал разглядывать ее книжные полки. На одной стояла маленькая статуэтка – какой-то очень архаичный Аполлон Тенейский, которого Юне подарил знакомый скульптор, талантливый парень, но с какими-то загибами. У нее было столько талантливых знакомых, что Димино сердце сжималось, как от дурного предчувствия.
Дима всматривался в Аполлона, словно пытаясь понять, большую ли опасность тот представляет. Гладкий дебелый Аполлон стоял, по-солдатски расправив плечи, с буклями, как у Ньютона, с улыбочкой идиота, замыслившего всех обвести вокруг пальца.
Полкой ниже стояла под стеклом большая фотография ее отца, – магнитофон, как, впрочем, и вся квартира, был его подарком. Дима с почтением всмотрелся в его лицо, исполненное заслуженного благополучия и порядочности, и сердце его снова сжалось, будто от предчувствия, что не так-то просто будет войти в этот мир благоустроенного достоинства. Дима так засмотрелся, что некоторое время они с фотографией оставались вдвоем в целом мире.
С трудом разорвав оцепенение, Дима стал перебирать книги. Вот целая полка маленьких поэтических сборничков в бумажных обложках. Имена все незнакомые – из современных поэтов он знал только Евтушенко и Рождественского, – много женских, он и не подозревал, что на свете так много женщин-поэтов. Обычно от вида стихов его тело без остатка наливалось скукой, от которой цепенели все чувства. Еще на школьных вечерах художественной самодеятельности он, вместе с остальным спортзалом публики, пережидал стихи и песни как неизбежную неприятность, которую необходимо перетерпеть, чтобы добраться до венца художественной части – спектакля. И когда наконец на сцене начинали ходить и разговаривать, как в жизни, по залу проносился вздох радости: «Пьесса! Пьесса!». Однако Юнины сборники он брал и пролистывал не без трепета. Они тоже были из области недоступного.
Потом шли подписные издания: Бальзак, Гюго, Мопассан. Лет двадцать назад Сенька Кирпичонок показывал Диме трепаную книжку, оглядываясь и всхохатывая: видал, блин, – Мопассан, «Жизнь». От возбуждения и конспирации голос его походил даже не на шипение, а на необыкновенно осипший свист: шшиссень, плин. Он ухмылялся с торжеством и презрением, нетерпеливо переступал, озирался, тыкая пальцем в раскрытую книжку, заглядывал Диме в глаза, пытаясь понять, где Дима читает, и торжествующе всхохатывал на ударных местах, на которых Дима предположительно находился: острая боль пронзила ее, блин, между тем как он грубо обладал ею, блин. Упивался – пллин – и всхохатывал так, словно он наконец кого-то вывел на чистую воду. Потом он похвастался, что у него есть еще страница из «Тихого Дона» – одни матюги – и отправился хвастаться дальше. С тех пор в слове «Мопассан» Диме чудилось что-то непристойное. Произнося его в общественном месте, он невольно понизил бы голос. Ему и в библиотеке неловко было спрашивать Мопассана, все равно что какую-нибудь «Гигиену половой жизни», а у Юны Мопассан открыто стоял на полке как свидетельство ее благородной свободы, непостижимо сочетающей чистоту и Мопассана, вселяя в Диму сразу и надежду и безнадежность. Вошла Юна, по-прежнему приветливая, но с бесповоротно утвердившейся дымкой печали. Дима поспешно отступил от Мопассана, чтобы она не заподозрила, что он тут потихоньку собирался его почитать, и с жалобной бодростью спросил: