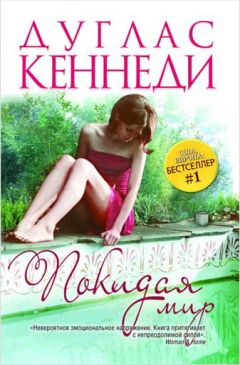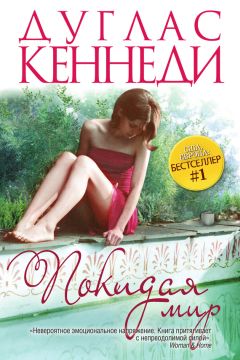Нам никогда не узнать, что в действительности кроется за невысказанным. Жест, выражение лица могут иметь любое значение, все зависит от интерпретации. Точно так же подчас невозможно досконально узнать истинные причины катастрофы. Следовательно, вступив на путь недосказанности, можно оградить себя от многого.
Вот чему научила меня смерть Дэвида. Если ни в чем не сознаваться, окружающим остается лишь строить догадки. Доказательств у них нет. Если тщательно хранить тайну, она на самом деле остается тайной. Эта мысль некоторым образом меня утешала, и не только потому, что в ней я увидела основу оборонительного щита, необходимого для дальнейшей жизни в Гарварде, но и потому, что она каким-то образом помогла разложить по полочкам все мои переживания, все отчаяние и гнев, позволила справиться с бушующими в душе демонами. Я почти не позволяла себе отвлекаться от работы над диссертацией. Профессор Готорден — а он прочитывал главу за главой по мере их появления на свет — был, казалось, доволен результатами. Когда я закончила, он выразил восхищение тем, что я сумела сделать это на шесть месяцев раньше официально установленного срока.
— Мне просто удалось как следует сосредоточиться, — объяснила я.
Обычно между написанием диссертации и ее защитой проходит четыре месяца. Но Готорден, явно желая ускорить процесс, сообщил мне, что назначит защиту до того, как члены ученого совета разъедутся на летние каникулы. На защите членами кафедры было задано всего три вопроса по поводу моей работы «Инфернальная двойственность: смирение и противление в американской литературе». Они касались влияния Эмиля Золя на творчество Драйзера и прогрессивной политической мысли в «Джунглях» Эптона Синклера. Один из профессоров довольно язвительно прошелся насчет моей тяги к поиску социально-экономического контекста решительно во всех рассматриваемых произведениях (это я легко парировала), другой выразил сомнение в том, не слишком ли «беллестристичен» мой стиль для научной работы… и вот уже я выхожу после защиты, отнюдь не уверенная в том, что мне удалось быть хоть немного убедительной.
Через неделю я получила официальное уведомление от Готордена о том, что защита диссертации прошла успешно и мне присвоена ученая степень доктора философии21. Внизу отпечатанного на принтере письма были две строчки, приписанные от руки:
Для меня было истинным удовольствием работать с вами. Желаю успеха.
И инициалы Готордена.
Было ли это вежливым способом сказать мне: «А теперь ступай на все четыре стороны»? Не потому ли он организовал мне стремительную, без проволочек, защиту, чтобы поскорее вычеркнуть меня из жизни кафедры и своей? Или это снова лишь одно из различных толкований, возможных для этих десяти слов? Неужели в мире всегда все так запутанно и допускает множество интерпретаций?
Спустя несколько дней после получения письма от Готордена мне позвонили из Гарвардского бюро по трудоустройству выпускников и пригласили на беседу. Сотрудница, встретившая меня — деловитая дама лет сорока по имени мисс Стил, — сообщила, что в Висконсинском университете в Мэдисоне только что открылась вакансия — освободилось место старшего преподавателя.
— Это редкий случай, когда впоследствии возможно будет заключить бессрочный контракт, и Висконсинский университет, как вы знаете, числится в ряду лучших государственных вузов.
— Я готова ехать на собеседование.
Двумя днями позже я вылетела в Мэдисон. Заведующий кафедрой — довольно издерганный тощий человек по фамилии Уилсон — встретил меня в аэропорту и по дороге в университет изливал мне душу. Он многословно рассказывал о том, что вакансия освободилась потому, что старший преподаватель внезапно проявил нездоровый интерес к студентке и был уволен; что необходимо найти еще одного человека — некому читать средневековую литературу, так как женщина, что вела этот курс в течение двадцати лет, допилась до того, что угодила в реанимацию, а…
— Ну, что тут скажешь? — подвел итог Уилсон, — Перед вами самая типичная ни на что не способная кафедра английской литературы.
Ближе к вечеру я сидела за столом для переговоров в административном здании, где со мной беседовали сам Уилсон и еще четыре сотрудника кафедры. В глаза мне бросилась подавленность будущих коллег, они выглядели одновременно и вялыми, и настороженными. Они бросали на меня оценивающие взгляды, как бы прикидывая, не слишком ли я высокого мнения о собственном уме, представляю ли для них угрозу или позволю себя подмять. Мне задали вопрос о скандале, из-за которого один из преподавателей вынужден был оставить свой пост.
Осторожно, предостерегла я себя, после чего ответила:
— Трудно судить, ведь я не знаю подробностей.
— Но что вы вообще думаете о правилах, запрещающих интимные отношения между студентами и членами преподавательского состава? — настаивала та же женщина.
Уж не известно ли ей обо мне и…?
— Это недопустимо, — ответила я, глядя ей прямо в глаза. Больше эта тема не затрагивалась.
Вечером я летела назад, в Бостон, вспоминая, как Дэвид однажды сказал мне: «Если когда-нибудь решишь стать университетским преподавателем, вспомни избитую, но освященную веками истину — в университетской среде все только и делают, что грызутся между собой, а причина одна — мало платят».
Дэвид. Бедный мой, чудесный Дэвид.
А я еще собираюсь войти в тот самый мирок, который довел его до смерти…
Поэтому, когда через три дня мне позвонили из Висконсина и сообщили, что я принята на работу, я сказала заведующему кафедрой, что отказываюсь от нее.
— Но почему же? — оторопел он.
— Я решила зарабатывать деньги, — объяснила я. — Серьезные деньги.
Деньги… вообще-то я никогда не придавала им большого значения. До момента, когда я начала зарабатывать всерьез, по-взрослому, я о них, по сути дела, вообще не думала. Как я понимаю сейчас, отношению к деньгам — к тому, как ими распоряжаться и как они распоряжаются нами (а такое рано или поздно неизбежно происходит), — люди учатся очень рано. Когда я была подростком, мы с мамой вынуждены были жить весьма скромно, так как в качестве алиментов отец перечислял нам ничтожную сумму. В старших классах я была известна как «дочка библиотекарши». В отличие от большинства других ребят в Олд Гринвиче, у меня не было собственной машины, я не говорю уж о членстве в загородном гольф-клубе (ведь Олд Гринвич — такое место, где мальчикам дарят первый набор клюшек для гольфа, когда им исполняется одиннадцать). Уже тогда я начала осознавать, что это не смертельно — не иметь автомобиля и не проводить уик-энды на особой территории для избранных. И все же о некоторых преимуществах, обеспечиваемых деньгами, я мечтала — прежде всего, мне хотелось бы иметь возможность не обращаться с просьбами к маме, которая и без того переживала из-за своей низкой зарплаты и неспособности сделать для меня больше, хотя я постоянно уверяла ее, что мне ничего не нужно сверх того, что я имею.
Удивительно, как складываются стереотипы поведения, а мы и наши близкие даже не замечаем, в какие моменты и под влиянием чего они формируются. Мама мучилась виной из-за нехватки денег. Я чувствовала себя виноватой перед мамой за то, что ее это мучило, а еще мне было больно и стыдно за отца из-за его скаредности. Я старательно добивалась стипендии (и находила мелкие подработки) для того, чтобы хоть немного облегчить мамино финансовое бремя и одновременно доказать отцу, что могу сама постоять за себя в этом мире.
Потому и получилось, что, учась в колледже, я пятнадцать часов в неделю работала в библиотеке, обеспечивая себя карманными деньгами. Во время учебы в аспирантуре Гарварда я, чтобы немного увеличить свои доходы, преподавала первокурсникам вводный курс литературной композиции. А из-за того, что в нашей жизни все было скудно, в обрез, я приучила себя к экономии. Стипендия моя, за вычетом книг и расходов на обучение, составляла семьсот долларов в месяц. Комната обходилась в пятьсот, так что в итоге, вместе с жалованьем за лекции для первокурсников, на руки я получала четыреста баксов в месяц на все про все. Как правило, я готовила и ела дома. Одежду покупала в дисконтных магазинах. Дважды в неделю даже позволяла себе сходить в кино. Для передвижения по Кембриджу и Бостону я прекрасно обходилась метро. Мне никогда ничего не хотелось, у меня не возникало чувства обделенности… потому что, по сути дела, я ни к чему и не стремилась.
В этом весь секрет того, как жить, не имея много денег. Надо просто понять, что, в сущности, для того, чтобы жизнь была интересной, требуется совсем чуть-чуть. Только начав зарабатывать всерьез, вы обнаруживаете потребность в таких вещах, о которых раньше и не помышляли. А стоит получить их, тут же появляются навязчивые мысли и обо всем прочем, чего у вас до сих пор еще нет. Потом вас охватывает отчаяние. Вы задаете себе вопрос — как же это, черт подери, вышло, что вы так подсели на эту потребность приобретать? — потому что знаете: потакая своим потребностям, вы одновременно обманываете себя и, прикидываясь, будто серьезно увлечены этой ерундой, пытаетесь подавить внутренние сомнения и уныние.