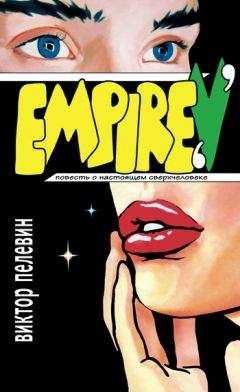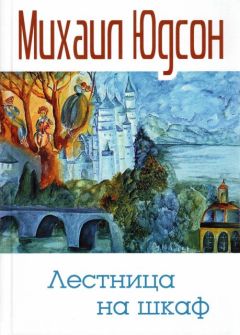Ознакомительная версия.
Никакого интереса к изготовителям масок, которые собирал покойный Брама (его коллекция висела на стенах), я не испытывал. К разделу «литература» тоже – там было множество имен из школьной программы, но я еще помнил тошноту, которую они вызывали на уроках. «Пренатальные переживания» вызвали у меня куда больше любопытства.
Как я понимал, речь шла об опыте человеческого плода в утробе. Я даже представить себе не мог, на что это похоже. Наверно, думал я, какие-то всполохи света, приглушенные звуки из окружающего мира, рокот материнского кишечника, давление на тело – словом, что-то неописуемое, эдакое парение в невесомости, скрещенное с американскими горками.
Решившись, я набрал в пипетку несколько капель из пробирки с названием «Italy-(», уронил их в рот и сел на диван.
Своей бессвязностью и нелогичностью переживание было похоже на сон. Вроде бы я возвращался из Италии, где не успел доделать работу, которой от меня ждали – что-то связанное с резьбой по камню. Мне было грустно, поскольку там осталось много милых сердцу вещей. Я видел их тени – беседки среди винограда, крохотные кареты (это были детские игрушки, воспоминание о которых сохранилось особенно отчетливо), веревочные качели в саду…
Но я был уже в другом месте, похожем на московский вокзал – вроде бы я сошел с поезда, нырнул в малоприметную дверь и попал в специализированное здание наподобие научного института. Его как раз переоборудовали – двигали мебель, снимали старый паркет. Я решил, что надо выбраться на улицу, и пошел куда-то по длинному коридору. Сначала он улиткой заворачивался в одну сторону, а потом, после круглой комнаты, стал разворачиваться в другую…
После долгих блужданий по этому коридору я увидел в стене окно, выглянул в него и понял, что ничуть не приблизился к выходу на улицу, а только отдалился от него, поднявшись на несколько этажей над землей. Я решил спросить кого-нибудь, где выход. Но людей вокруг, как назло, не было видно. Я не хотел идти назад по коридору-улитке и стал по очереди открывать все двери, пытаясь кого-нибудь найти.
За одной из дверей оказался кинозал. В нем шла уборка – мыли пол. Я спросил у работавших, как выбраться на улицу.
– Да вон, – сказала мне какая-то баба в синем халате, – прямо по желобу давай. Мы так ездим.
Она указала мне на отверстие в полу – от него вниз шла зеленая пластмассовая шахта, вроде тех, что устраивают в аквапарках. Такая система транспортировки показалась мне современной и прогрессивной. Меня останавливала только боязнь, что куртка может застрять в трубе: проход казался слишком узким. С другой стороны, баба, которая посоветовала мне воспользоваться этим маршрутом, была довольно толстой.
– А вы сами так же спускаетесь? – спросил я.
– А то, – сказала баба, наклонилась к трубе и вылила в него из таза, который был у нее в руках, грязную воду с какими-то перьями. Меня это не удивило, я только подумал, что теперь мне придется ждать, пока труба высохнет…
Здесь переживание кончилось.
К этому дню я уже проглотил достаточно дискурса, чтобы распознать символику сновидения. Я даже догадался, что могут означать метки на пробирках. Видимо, если опыт «Italy-(» кончался ничем, стоявший рядом «France-)» завершался прыжком лирического героя в шахту. Но я не стал проверять эту догадку: по своему эмоциональному спектру пренатальный опыт был малоприятен и напоминал гриппозное видение.
После этого случая я вспомнил известное сравнение: тело внутри материнской утробы похоже на машину, в которую садится готовая к поездке душа. Вот только когда она туда залезает – когда машину начинают строить или когда машина уже готова? Такая постановка вопроса, разделявшая сторонников и противников аборта на два непримиримых лагеря, была, как оказалось, необязательна. В проглоченном мною дискурсе были представлены и более интересные взгляды на этот счет. Среди них был, например, такой: душа вообще никуда не залезает, и жизнь тела похожа на путешествие радиоуправляемого дрона. Существовал и более радикальный подход: это даже не путешествие дрона, а просто трехмерный фильм о таком путешествии, каким-то образом наведенный в неподвижном зеркале, которое и есть душа… Как ни странно, эта точка зрения казалась мне самой правдоподобной – наверно, потому, что в моем зеркале к этому времени отразилось очень много чужих фильмов, а само оно никуда не сдвинулось – а значит, действительно было неподвижным. Но что это за зеркало? Где оно находится? Тут я понял, что снова думаю про душу, и у меня испортилось настроение.
Через пару дней в одном из ящиков картотеки нашлась приблудная пробирка. В ней было меньше жидкости, чем в остальных. Ее индекс не совпадал с индексом ящика; я проверил его по каталогу и увидел, что препарат называется «Rudel ZOO». Из записей следовало, что речь идет о германском летчике Гансе Ульрихе Руделе. Препарат относился не к военному разделу, а к эротическому. Это была единственная сохранившаяся пробирка оттуда.
Дегустация последовала незамедлительно.
Ничего связанного с боевыми действиями я не увидел – если не считать смазанных воспоминаний об одном рождественском полете над Сталинградом. Никаких всемирно известных злодеев тоже не было. Материал оказался сугубо бытовым – Ганс Ульрих Рудель был запечатлен во время своего последнего визита в Берлин. В черном кожаном пальто, с каким-то невероятным орденом на шее, он снисходительно совокуплялся с бледной от счастья старшеклассницей возле станции метро «Зоо» – почти не таясь, на открытом воздухе. Кроме эротической программы, в препарате осталось воспоминание об огромном бетонном зиккурате с площадками для зенитной артиллерии. Это сооружение выглядело так нереально, что у меня возникли сомнения в достоверности происходящего. В остальном все походило на стильный порнофильм.
Должен признать, что я посмотрел его не раз и не два. У Руделя было лицо интеллигентного слесаря, а школьница напоминала рисунок с рекламы маргарина. Как я понял, интимные встречи незнакомых людей возле станции «Зоо» стали традицией в Берлине незадолго до его падения. Радости в последних арийских совокуплениях было мало – сказывалась нехватка витаминов. Меня поразило, что в промежутках между боевыми вылетами Рудель метал диск на аэродроме, как какой-нибудь греческий атлет. Я совсем иначе представлял себе то время.
Еще через несколько дней я все-таки попробовал препарат из литературного раздела. Покойный Брама был большим ценителем Набокова – это подтверждали портреты на стене. В его библиотеке было не меньше тридцати препаратов, так или иначе связанных с писателем. Среди них были и такие странные пробирки, как, например, «Пастернак + 1/2 Nabokov». Было непонятно, что здесь имеется в виду. То ли речь шла о неизвестной главе из личной жизни титанов, то ли это была попытка смешать их дарования в алхимической реторте в определенной пропорции.
Этот препарат мне и захотелось попробовать. Но меня ждало разочарование. Никаких видений после дегустации меня не посетило. Сначала я решил, что в пробирке просто вода. Но через несколько минут у меня начала чесаться кожа между пальцами, а потом захотелось писать стихи. Я взял ручку и блокнот. Но желание, к сожалению, не означало, что у меня открылся поэтический дар: строчки лезли друг на друга, но не желали отливаться во что-то законченное и цельное.
Исчеркав полблокнота, я родил следующее:
За калину твою,
За твой пиленый тендер с откатом,
За твой снег голубой,
За мигалок твоих купола…
После этого вдохновение наткнулось на непреодолимый барьер. Вступление подразумевало какое-то ответное «я тебе…» А с этим было непросто. Действительно, думал я, пытаясь взглянуть на ситуацию глазами постороннего – что, собственно, «я тебе» за пиленый тендер с откатом? Приходило в голову много достойных ответов на народном языке, но в стихах они были неуместны.
Я решил, что поэтический эксперимент на этом закончен и встал с дивана. Вдруг у меня возникло ощущение какой-то назревающей в груди счастливой волны, которая должна была вот-вот вырваться наружу и обдать сверкающей пеной все человечество. Я глубоко вздохнул и позволил ей выплеснуться наружу. После этого моя рука записала:
My sister, do you still recall
The blue Hasan and Khalkhin-Gol?
И это было все. Напоследок только хлопнуло в голове какое-то бредовое трехступенчатое восклицание вроде «хлобысь хламида хакамада», и лампа музы угасла.
Возможно, несовершенство этого опыта было вызвано недостатком эмоционального стройматериала в моей душе. Ведь даже самому великому архитектору нужны кирпичи. А в случае с Набоковым дело могло быть еще и в недостаточности моего английского вокабуляра.
Но эксперимент нельзя было назвать бесполезным. Из него я понял, что существует способ ограничить объем информации, содержащейся в препарате: никаких сведений о личной жизни поэтов в нем не было.
Ознакомительная версия.