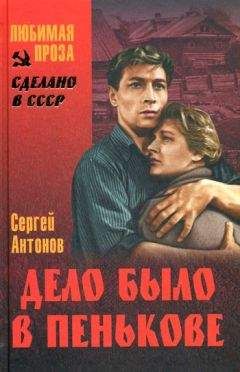А вокруг пели песни. Хотя многие из них были неизвестны Тоне, она подпевала наугад, совсем не стесняясь, как это обыкновенно бывало, своего слабого, дребезжащего голоса. Шурочка кивала ей, подбадривая улыбкой, и она улыбалась в ответ, показывая свой остренький, выбившийся из ряда зубок.
Захмелевший Тятюшкин затянул песню о неверном муже, который привез чужой жене башмачки, а своей женке лапотки.
Чужа женка — чок-чок-чок,
Своя женка — хлоп-хлоп-хлоп…—
блаженно закатывая глаза, выводил Тятюшкин. Зефиров подошел к нему и предупредил, что такое на свадьбе петь не положено, и Тятюшкин послушно замолк.
В одиннадцать часов начался подклет.
Лариса встала, держа тарелку с двумя рюмками. Матвей стоял рядом с бутылкой вина. Сначала родные, а затем гости парами подходили к молодым с подарками, поздравляли их, каждый по-своему, душевно и просто, дарили рубашки, чашки, ботинки и угощались из рук невесты.
Зефиров подошел с женой, подал Ларисе большой сверток и велел распечатать его тут же, при гостях.
Все, кроме Тони, улыбались. Лариса развернула одну обертку, затем вторую, потом третью. Ворох бумаги на столе все увеличивался, сверток уменьшался, а подарка не было видно. Наконец Лариса развернула последнюю маленькую бумаяжу, и из нее выпала соска на длинной ленте. Все захохотали. Тоня поняла, что такой подарок повторяется на каждой свадьбе, по и она хохотала вместе со всеми.
— Вот это и называется у нас подклет, — объяснил Тятюшкин Тоне, когда она снова села за стол. — Подклет — это у нас подызбица, вон там, под полом. По-вашему — кладовка. Вот, значит, и дарят, чтобы у молодых в подклете добро не переводилось. Поняла?
— Поняла, — кивнула Тоня.
— В каждом слове есть свое зернышко, — продолжал Тятюшкин. — Так его не поймешь — его раскусить надо. Вот, к примеру, слово «семья». Что значит? Значит — седьмой я. А не то что, как у вас в городе: одного народят — и хватит… — И он горестно махнул рукой.
Этот разговор с Тятюшкиным, и то, что Лариса и Матвей, по обычаю, ничего не пили и не ели, и то, что под возгласы «горько» они безжизненно притрагивались друг к другу губами, и то, что дружка уже три раза водил невесту переодеваться в новое платье, — все это казалось Тоне исполненным особого, высокого значения.
Шел второй час ночи, а гости гуляли все более шумно. Многие вышли из-за стола, танцевали, пели в разных концах разное, старались перекричать друг друга. Все были пьяны. Только Матвей и Лариса по-прежнему серьезно сидели перед пустыми тарелками и совершенно трезвый Зефиров унимал не в меру расходившихся плясунов.
Тоня устала, и ее клонило ко сну. «Ой, как хорошо!.. — думала она. — И «девичья краса» — хорошо, и подклет — хорошо… И как я только могла подумать, что уеду отсюда? Нет, я буду работать, стану такой же, как Шурочка, как Лариса, как Матвей. — Тоня засыпала и в полусне старалась удержать кончик ускользающей мысли. — Как Матвей? При чем тут Матвей? Я думала что-то хорошее-хорошее… При чем здесь Матвей?..»
Как дедушка довел ее до избы, как она разделась — она не помнила. Сон окончательно сморил ее.
Утром Тоня почувствовала, что с нее сдернули одеяло. Она вскрикнула и открыла глаза. Возле постели стояло, пошатываясь, странное существо с бородой из пакли, в полушубке, вывороченном наизнанку, в соломенной шляпе, увешанной разноцветными лентами.
— Полно дрыхнуть. Вставай молодых встречать… — сказало существо, и Тоня по голосу узнала Зефирова.
— Что вы делаете! — закричала она, стараясь простыней укрыть голые бедра с мятыми, от резинок, полосками.
Зефиров рассматривал ее, не выпуская из рук одеяла.
— Уходите сейчас же! — закричала Тоня, — Или я… Я Ивану Саввичу скажу. Дедушка!
— Ну, чего зеваешь? — Дедушка вышел из-за перегородки чистенький, приглаженный, как после бани. — Ряженых не видала?
— Одевайся сейчас, — сказал Зефиров, — а то как есть, нагишом снесу.
— Дедушка… Скажи ему!..
В это время в избу ввалились две женщины: одна в белом халате доярки, изображающая доктора, другая в широченных бриджах Ивана Саввича — обе пьяные, с намазанными губной помадой щеками, с бородами, подвешенными на проволоке.
— Пошли Уткина подымать! — крикнула Зефирову та, что была наряжена доктором. — А то он там… — И она деловито произнесла неприличную фразу.
Зефиров бросил Тоне на голову одеяло, и ряженые, распахнув двери, выкатились на улицу.
Дедушка глядел на них в окно и мелко хихикал.
— Никуда я не пойду, — сказала Тоня. — Что за безобразие!
— Смотри! — откликнулся дед. — Обратно воротятся. Тоня испугалась и стала одеваться.
Когда они с дедом вошли в избу Морозова, молодые уже были там. Гости бросали на пол посуду, а Лариса, в фартучке и платочке, заметала осколки веником в противоположную от двери сторону.
В избе стоял звон и крик.
— Что вы чужие тарелки бьете! — шумела Дарья Семеновна. — Тарелки-то у соседей взяты… Вон они, горшки, кидайте, а тарелки не трогайте. Не трогайте тарелки, вам говорят!
Но ее никто не слушал, и тарелки — пустые, со студнем, с кружками огурцов — летели на пол, разбиваясь на мелкие осколки.
— Плоха будет хозяйка! Плохо метет! Вон сколько сору оставила! — кричали гости и бросали на чистое место деньги — трешки, пятерки, десятки.
Лариса возвращалась, сметала мятые бумажки в кучу и складывала их в карман фартука.
А Шура мешала ей, не давала мести. Она с притопкой выплясывала перед Ларисой, дробя осколки еще мельче, разбрызгивая их по сторонам.
И она пела. Тоня вслушалась и ужаснулась. Шурочка, милая, робкая комсомолочка Шурочка, та самая Шурочка, которая вчера вечером с трогательной важностью подносила молодым «девичью красу», пела теперь такое, что у любого пожилого мужчины должны бы зашевелиться на голове волосы. Но ее не останавливали и даже не обращали на нее внимания, будто все идет как должно быть.
Парни беседовали, прикуривали, Лариса мела, а Алевтина Васильевна приговаривала постным голосом!
— Нет, не умеет невеста мести… Дайкось, я покажу, как надо, касатка-Лариса передала веник.
— Ой, какая ручка колючая! — притворно воскликнула сваха.
Лариса подала ей платок. Алевтина Васильевна обвернула платком ручку веника и стала подметать к двери. А позади нее стучала каблуками Шурочка и пела безобразные песни…
— Что это такое? — сказала Тоня. — Надо увести ее.
— Кого? — не понял Тятюшкин.
— Да Шуру. Она совсем пьяная.
— Какая она пьяная! Она, кроме сладкого, ничего не пьет.
— Как же ей не стыдно!
— Чего это?
— Петь такое.
— Вон что! — ухмыльнулся Тятюшкин. — Тебе не нравится, что с картинками! А ты не слушай. Это уж так заведено присаливать. Без этого на свадьбе невозможно.
— Почему же! Вчера было так хорошо!
— То вчера, а то сегодня, — сказал Тятюшкин. — Вчера они были жених с невестой, а сегодня — муж с женой… Они и так не весь порядок исполнили. По-настоящему, положено ночью свести молодых в баню, а сегодня сваха должна была Ларисину сорочку на подносе по избе пронести.
Тоня смотрела на Тятюшкина широко открытыми глазами.
— А этого не исполнили. — Тятюшкин снова ухмыльнулся. — Поскольку со свадьбой запоздали.
— Как это ужасно!
— Ужасно не ужасно, а нехорошо — это верно. Да ведь не мы придумали.
— Надо же как-то бороться с этим.
— А как бороться? Вот ты, ученая, и скажи. Тоня не знала, как бороться.
Посидев немного с дедушкой, она пробралась к двери и незаметно вышла.
«Нет, я тут не останусь, — решила она. — Поработаю три года и переведусь. Обязательно переведусь куда-нибудь».
Глава десятая
Главное звено
Был поздний вечер. Тоня сидела у окна и писала письмо подруге.
На дворе моросил дождик и шептался в увядшей листве кустов. Дедушка спал и похрапывал ртом. Тоня прислушалась к шуму дождя и пересела к другому окну. За другим окном кусты не росли и дождя не было слышно.
«Дорогая Галка! — писала Тоня. — Как тебе работается там, в Псковской области? Все-таки сидеть в аудитории, даже когда Игорь Михайлович может вызвать к доске, куда спокойней. Правда? Впрочем, у меня дело, кажется, налаживается, и мое прошлое упадническое письмо ты порви или уничтожь любым другим способом. Вообще, как я убедилась, ничего сложного в жизни нет. И я совершенно согласна с великим писателем Горьким, который сказал: «Вообще же все в нашем мире очень просто, все задачи и тайны разрешаются только трудом и творчеством человека, его волею и силой его разума».
И люди здесь гораздо лучше, чем я тебе писала, и даже Морозов оказался довольно оригинальным типом в духе Печорина. Между прочим, дочь нашего председателя колхоза вышла за него замуж. Я была приглашена на свадьбу и веселилась до упаду.