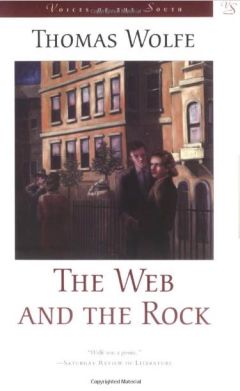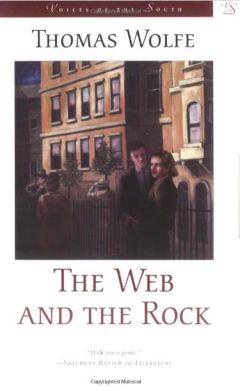Где?
В городке Либия-Хилл, в Старой Кэтоубе, двадцать лет назад, примерно одиннадцать часов вечера, он слышит мягкий, прохладный шелест листвы; из темноты доносились напев и радость музыки на танцах, но теперь она прекратилась, и город затихает, слышен только собачий лай; кроме него где-то в темноте у реки он слышит громыхание колес по рельсам, звон колокола и долгий, завывающий гудок американского ночного поезда, сиротливый и чудесный звук, затихающий в одной из долин Юга.
Теперь, тоже на одной из зеленых, спящих улиц в том городке, ребенок слышит звук заводимого мотора; слышит неожиданный и громкий в ночи рев одного из первых автомобилей. Ему легко представить, как выглядит этот автомобиль – это один из ранних «бьюиков» или «хадсонов» с ревущими моторами, от него пахнет бензином и кожей сидений. За рулем сидит какой-нибудь бесшабашный парень с румяным лицом, в кожаных гетрах, он, завершив дневные труды, выехал на своем автомобиле или «позаимствовал» чужой в одном из темных, унылых гаражей, чтобы покатать свою любовницу или какую-нибудь доступную женщину.
Прохладный, темный ночной воздух, трепет листвы, тонкий, пьянящий аромат цветов, громадная заманчивость сонной земли и темных холмов еще больше разжигают их страсть, и ребенок в постели взбудоражен тайной и соблазном ночи. Шум затихает, и любовники идут по тихой улице под шелестящей листвой деревьев: он слышит их шаги и негромкую интимность голосов. Потом раздается негромкий, мягкий смех женщины, и это было двадцать лет назад, тогда в моде была песня «Доброе, старое летнее время». Итак, эта сцена, извлеченная из темной, глубокой пучины памяти, вспыхивает в мозгу путешественника перед сном, но кто может сказать, каким образом, благодаря какому волшебству? Смех женщины на улице старого французского городка оживил ее, и с нею над утраченным образом ребенка, над крушением, усталостью, увяданием плоти оживает вся безбрежная мечтательность, вся невинность юности, которая никогда не может умереть. Память пробуждает невыразимое чувство, безгласный клич, смысл, который путешественник в душе не может облечь в слова, он вновь слышит в ночи резкий, пронзительный гудок французского поезда, с его уст срывается возглас радости, боли, переплетенных горя и восторга, и он засыпает.
Вот уже три дня Джордж жил, будто во сне. Громадный окружающий мир Парижа со всей его монументальной архитектурой, оживленными улицами, толпами и суетой, кафе и ресторанами, игрой и блеском жизни проплывал мимо него, вокруг неясными, смутными картинами какого-то призрачного мира. Он постоянно думал об Эстер, но словно человек, находящийся во власти каких-то могущественных, злых чар. Теперь он был исполнен новых сомнений и мучительных страхов. Почему нет письма от нее?
Его носило по всему городу какое-то беспощадное, изнурительное беспокойство, он не радовался тому, что видел, на уме у него были только перемены и движение, словно обитавших в его душе дьяволов можно было обогнать, оставить позади. Он метался от кафе к кафе, садился на террасе, в одном пил кофе, в другом пикон, в третьем пиво, лихорадочно и грустно глядя на безудержную живость, неистощимую и бессмысленную веселость французов.
И везде было одно и то же. Прежде всего снующие туда-сюда официанты, потом ждущие любовниц молодые люди, потом ждущие любовников молодые женщины, потом семьи, поджидающие родственников и расставляющие стулья в кружок, потом одинокие молодые люди, как и он, потом две-три случайные проститутки, потом французы, ведущие деловые разговоры за кружкой пива, потом занятые сплетнями старухи.
Куда от этого деваться? Пойти в другое кафе, выпить пива? Или коньяка? Но и там то же самое.
Джордж терпеть не мог отеля и как только поднимался поутру, уходил. Садился в автобус или шел неистовым, стремительным шагом по набережным, через мост, под аркой Лувра, по авеню дель-Опера к зданию конторы «Америкен Экспресс». Там, кипя от волнения и нетерпения, стоял в очереди к почтовому окошку, уверенный, что сегодня получит от нее долгожданное письмо. Потом, когда письма не оказывалось, быстро уходил с тоской и отчаянием в сердце, ненавидя все и всех вокруг, ненавидя даже теплый, серый воздух, которым дышал.
Может, его корреспонденцию забыли переслать из Лондона? На миг у него ярко вспыхивала надежда, он исполнялся уверенности, что письмо Эстер ждет его там. Или ее великая, бессмертная любовь умерла? Может, он забыт и отвергнут? Может, «вечно» – это всего полтора месяца? Может, она теперь шепчет «вечно» другому любовнику?
С каждым днем его надежда вновь оживала. И с замирающим сердцем он знал наверняка, кто вручит ему письмо. Он уже так возненавидел невысокого, лысого служащего с отрывистой речью, что знание об этой ненависти передалось этому неприятному, но безобидному маленькому человеку. Ибо, как Джордж стал понимать, хотя люди живут во множестве разных миров памяти, мыслей, времени, мир чувств у них, в сущности, один. Последний осел с огрубелой плотью и недоразвитым мозгом способен понять Эйнштейна или Шекспира не лучше, чем забредшая в библиотеку собака разобраться в книгах хозяина. И однако же этот тупой болван с разумом животного может мгновенно прийти в ярость от пренебрежительного взгляда, насмешливого высокомерия в едином слове, надменно раздуваемых ноздрей, искривленных губ.
Так обстояло и с тем тупым, заурядным человечком в «Америкен Экспресс». Он почувствовал странную неприязнь к себе со стороны этого клиента, и теперь они ежедневно глядели через перегородку друг на друга суровыми, холодными глазами, в кото рых сквозила ненависть, слова их звучали грубо, резко, и когда служащий, отвернувшись от писем, отрывисто говорил: «Вам ничего нет, Уэббер», на его лице при виде страдания и растерянности Джорджа появлялось злобное удовлетворение.
И когда после этого он, топая, уходил из конторы, его горе и злобное разочарование бывали так сильны, что он ненавидел не только служащих, но и заходивших туда туристов. Ему казалось, что они с гнусной радостью глядят пустыми, безжизненными, злобными глазами на его отчаяние. Ненавидел гнусавые, монотонные голоса, иссохшие шеи, постные, с выдающимися челюстями лица своих соотечественников и соотечественниц, их дешевую, неприглядную одежду массового пошива, их грубую, надменную бесчувственность, раздражающе действующую на нервы людям других национальностей. Ненавидел всю их штампованную, металлическую стандартность и лишь оттого, что не получил письма, обращал злобу на земляков, убеждал себя в каком-то разгуле извращенного патриотизма, что вся страна стала выхолощенной, отвратительной, растленной и преступной, что она создала чудовищную, гнусную, пагубную машину, отштамповавшую отвратительную расу роботов, которые предали всю прежнюю радость жизни, благо-датность и честь «старой Америки» – Америки Дэвида Крокетта, Линкольна, Уитмена, Марка Твена – и, разумеется, его собственной; и что если возрождать Америку, спасать весь мир, то эту мерзкую, уродливую расу подлых роботов придется уничтожить. И все потому, что он не получил письма от женщины!
Он молча проходил широким шагом мимо туристов, болтающих в залах «Америкен Экспресс Компани», и скрипел зубами, когда с какой-то злорадной ненасытностью ненависти, со злобным удовлетворением ловил обрывки разговоров. Радости в них не слышалось. Там собирались обманутые, озадаченные люди, велись бесконечные разговоры взволнованных, жалующихся, смятенных, несчастных, спешащих, измотанных, неопытных людей. То были жители маленьких городков, мечтавшие «съездить в Европу» – учителя со Среднего Запада, провинциальные бизнесмены с женами, «клубные дамы», студенты и студентки – и теперь их гоняли стадом, будто скот, на какую-нибудь отвратительную экскурсию, обращались к ним на незнакомом языке, приводили их в замешательство, повсюду обманывали, они были уже раздосадованы, утомлены, напуганы, сбиты с толку всем этим, горько разочарованы замечательным путешествием, о котором мечтали всю жизнь, и отчаянно стремились «попасть снова домой».
В таких случаях Джордж даже не знал, кого недолюбливал больше – туристов с их гнусавыми, хнычущими, жалобными голосами или служащих с их грубыми, бесцеремонными, отрывистыми, раздраженными, неприветливыми манерами, их почти откровенной -совсем как у маленького почтового служащего – радостью подавленности, смятению, заблуждению, неловкости людей, которых они обслуживали. Служащие были и американцами, и французами; когда Джордж проходил через залы, они во время разговора неторопливо барабанили пальцами о перегородки, он слышал, как они с раздраженной неприступностью говорят неприятными, холодными голосами;
– Сожалею, мадам. Билеты мы вам заказали, но не можем нести ответственность, если вам не нравятся места… Нет. Нет. Мне жаль, что ваши места за колонной, и она заслоняет вам вид, но вы брали билеты на свою ответственность. Мы не виноваты… Нет, сэр! Нет! Мы тут совершенно ни при чем… Нет! Мы не можем быть в ответе!.. Мы рекомендовали этот отель, он есть у нас в списке, мы всегда считали его приличным, другие люди, которых мы направляли туда, хорошо о нем отзывались… Если у вас украли багаж, мне жаль. Мы не сможем нести ответственность за ваш багаж. – Потом резко: – К кому?.. Что такое? – С холодным равнодушием: – Не могу сказать, к кому вам обращаться, сэр. Попробуйте к американскому консулу… Надо было обратиться к местным властям… Если дирекция отеля отказывается возместить убытки, мне жаль. Но мы ничего не можем для вас сделать… Слушаю вас, – отрывисто, холодно другому терпеливо ждущему посетителю. – Куда вам?.. В Страсбург, – холодным, отрывистым тоном; затем устало: – В десять тридцать утра… в четырнадцать пять днем… и в девять тридцать каждый вечер… С Восточного вокзала, – холодно лезет за расписанием поездов, быстро обводит кружочками три пункта, потом грубо сует посетителю, не глядя на него, и, раздраженно барабаня пальцами, обращает взгляд на очередного просителя и резко спрашивает: – Так?.. Что вам нужно? Аккредитив? – Устало: – Это напротив, увидите табличку… Нет, сэр. Нет. Заказ на билеты здесь.