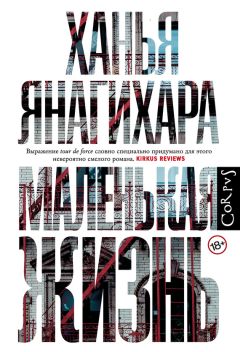— Отличная вечеринка! — прокричал Гарольд ему на ухо.
— Это все Ричард! — прокричал он в ответ и хотел что-то добавить, но тут музыка стала еще громче, и они с Гарольдом глянули друг на друга, пожали плечами и рассмеялись.
Какое-то время они просто стояли, улыбаясь и глядя, как перед ними мельтешат танцоры. Он устал, у него все болело, но все это было не важно, усталость казалась ему сладостной, теплой, боль была привычной, ожидаемой, и в такие вот минуты он понимал, что способен радоваться, что жизнь у него не без ложки меда. Тут сменилась музыка, стала неспешной, поплыла, и Гарольд прокричал, что хочет вызволить Джулию из лап Виллема.
— Иди, — ответил он и вдруг, повинуясь какому-то импульсу, потянулся к Гарольду, обнял его, впервые по собственной воле дотронулся до него после того случая с Калебом. Он видел, как Гарольд поначалу замер, а потом просиял, и его так и накрыло чувством вины, и он как можно быстрее отодвинулся, прогоняя Гарольда — мол, иди-иди, танцуй.
В одном углу было гнездышко из набитых ватой мешков, которые Ричард разложил для тех, кому захочется куда-то приткнуться, и он уже шел к ним, когда Виллем поймал его за руку:
— Пойдем потанцуем.
— Виллем, — с улыбкой принялся отнекиваться он, — ты же знаешь, что я не умею танцевать.
Виллем окинул его оценивающим взглядом.
— Пойдем со мной, — сказал он, и он пошел — в восточный угол лофта, и Виллем затащил его в ванную, запер дверь, поставил свой бокал на край раковины. Музыку здесь все равно было слышно — играла песня, которая была популярна, когда они учились в колледже, глупая, но даже какая-то трогательная в этой своей бесстыдной сентиментальности, сиропности, искренности; в ванную она просачивалась глухой струйкой, словно из далекой равнины.
— Обними меня вот так, — велел ему Виллем, и он обнял. — Теперь я двигаю левую ногу вперед, а ты отставляй правую назад. — И он отставил.
Какое-то время они топтались на месте, медленно и неуклюже, молча глядя друг на друга.
— Видишь? — тихо сказал Виллем. — Ты танцуешь.
— Очень плохо танцую, — смутившись, пробормотал он.
— Ты отлично танцуешь, — сказал Виллем, и хотя ноги у него уже болели так, что его даже пот прошиб, до того он крепился, чтобы не закричать, но он все равно двигался, правда еле-еле, так что к концу песни они просто покачивались туда-сюда, не отрывая ног от пола, и Виллем придерживал его, чтобы он не упал.
Когда они вышли из ванной, группка людей, стоявших неподалеку от двери, одобрительно заулюлюкала, и он покраснел — в последний, в самый последний раз они с Виллемом занимались сексом почти полтора года назад, — но Виллем рассмеялся и вскинул кулак, словно боец, только что победивший в раунде.
А потом настал апрель и его сорок седьмой день рождения, а за ним — май, в мае у него открылись раны на обеих голенях, а Виллем улетел в Стамбул сниматься во второй части шпионской трилогии. Он рассказал Виллему о ранах, он старался рассказывать обо всем, что случалось, даже если ему это не казалось важным, — и Виллем встревожился.
Сам он, впрочем, не волновался. Сколько у него этих ран уже было? Десятки, дюжины. Он просто тратил больше времени на то, чтобы с ними справиться. Энди он теперь посещал два раза в неделю: в обед по вторникам и в пятницу вечером, один раз, чтобы очистить рану, и один — для вакуумной терапии, которую проводила медсестра. Энди раньше считал, что для такого лечения (на открытой ране закрепляли стерильный пеноматериал и через насадку откачивали воздух, в результате чего пена, как губка, всасывала омертвевшую ткань) у него слишком тонкая кожа, но в последнее время он хорошо переносил эту процедуру, да и помогала она ему гораздо лучше, чем простое очищение.
С возрастом состояние ран — частота их появлений, степень тяжести, размер и то, сколько неудобств они ему причиняли — непрерывно ухудшалось. В прошлом, в десятилетиях прошлого остались те дни, когда он мог пройти хоть сколько-нибудь ощутимое расстояние с ранами на ногах. (Воспоминания о том, как он с такой вот раной на ноге прогуливался — не без боли, конечно — от Чайнатауна до Верхнего Ист-Сайда, теперь казались настолько странными и далекими, что как будто бы были вовсе не его воспоминаниями.) Когда он был моложе, одна рана могла затянуться за несколько недель. Теперь на это уходили месяцы. Но с ним столько творилось неладного, что раны его волновали меньше всего — хотя с их появлением он свыкнуться так и не смог. Крови он, конечно, не боялся, но до сих пор, даже по прошествии стольких лет, не мог спокойно смотреть на гной, гниение и на то, как его тело в отчаянной попытке излечиться убивает часть себя.
Когда Виллем вернулся домой насовсем, лучше ему не стало. Теперь у него было четыре раны на голенях, столько сразу — впервые, и хотя он все равно старался ходить каждый день, иногда ему трудно было даже стоять, и теперь он тщательно анализировал каждое усилие: он идет, потому что, кажется, может ходить, или он идет, потому что хочет доказать себе, что может ходить. Он чувствовал, что худеет, чувствовал, что слабеет — он уже не мог больше даже плавать по утрам, — но всерьез в этом убедился, только увидев лицо Виллема.
— Джуди, — тихонько сказал Виллем и опустился на колени возле дивана, — ну что же ты мне не сказал.
Странно, конечно, но говорить-то было и нечего, ведь все это — он и есть. А если не брать в расчет ноги и спину, так он и вовсе чувствовал себя нормально. Он чувствовал себя — хоть и не решался сказать, боясь показаться самонадеянным — душевно здоровым. Он снова резал себя всего раз в неделю. Он обнаружил, что насвистывает, когда снимает вечером штаны и осматривает кожу вокруг повязок, проверяя, не промокли ли они. Люди привыкают к своим телам в любом их виде, и он не был исключением. Если тело здоровое — ждешь, что оно всегда будет тебя слушаться, постоянно, с полуслова. Тело больное — и ожидания другие. По крайней мере, к этому он пытался себя приучить.
Виллем вернулся в конце июля и вскоре после этого разрешил ему прекратить их — по большей части молчаливые — отношения с доктором Ломаном, но только потому, что у него теперь действительно не оставалось на них времени. Он тратил на врачей четыре часа в неделю — два на Энди, два на Ломана, — и эти два часа были ему нужны теперь, чтобы дважды в неделю ездить в больницу, где он снимал штаны, перекидывал галстук через плечо и заезжал в компрессионную камеру, в стеклянный гроб, в котором он лежал, работал и надеялся, что концентрированный кислород, который туда со всех сторон закачивают, ускорит заживление ран. Он чувствовал себя виноватым в том, что за полтора года не рассказал Ломану почти ничего, что почти все это время ребячливо оборонял свои тайны, стараясь ничего не выдать, впустую тратя и свое время, и время доктора. Впрочем, его ноги были одной из немногих тем, которые им удалось обсудить, — не как он получил травму, а как именно он их лечит, — и во время их последнего сеанса доктор Ломан спросил, что будет, если он все-таки не поправится.
— Подозреваю, что ампутация, — сказал он, стараясь говорить непринужденно, хотя, конечно, ничего непринужденного в этом не было, да и какие уж тут подозрения, он наверняка знал две вещи: что когда-нибудь умрет и что умрет он уже без ног.
Он просто надеялся, что случится это еще не скоро. Пожалуйста, иногда умолял он ноги, лежа в стеклянном коробе. Пожалуйста. Ну дайте мне еще несколько лет. Еще десять лет. Пусть я доживу целым до пятидесяти, до шестидесяти. Я буду о вас заботиться, я обещаю.
К концу лета он так свыкся и с новым витком болезни, и с лечением, что даже не сразу задумался о том, как все это сказывается на Виллеме. В начале августа они обсуждали, как праздновать (праздновать ли? или не стоит?) сорок девятый день рождения Виллема, и Виллем сказал, что в этом году надо обойтись как-то по-простому.
— Ну тогда мы в следующем году что-нибудь грандиозное устроим на твое пятидесятилетие, — сказал он. — Если я, конечно, жив буду. — И только заметив, что Виллем вдруг замолчал, он поднял голову от плиты, увидел выражение лица Виллема и понял, что зря это сказал. — Виллем, прости. — Он выключил газ и медленно, превозмогая боль, поплелся к нему. — Прости.
— Нельзя так шутить, Джуд, — сказал Виллем, обняв его.
— Знаю, — ответил он. — Прости меня. Я глупость сказал. Конечно, никуда я в следующем году не денусь.
— И еще много лет не денешься.
— И еще много лет не денусь.
Сейчас уже сентябрь, и он лежит на смотровой кушетке у Энди, раны на ногах открыты, по сей день — как лопнувшие спелые гранаты, а по ночам он лежит в постели рядом с Виллемом. Он до сих пор остро чувствует нестандартность их отношений, и часто его мучает совесть из-за того, что он не хочет исполнять фактически одну из ключевых обязанностей совместной жизни. Иногда он думает, что готов решиться на это снова, но затем, едва он собирается сказать об этом Виллему, как вдруг осекается и тихонько упускает очередную возможность. Но даже сильное чувство вины не может заглушить ни огромного облегчения, которое он испытывает, ни благодарности за то, что он, несмотря на свою ущербность, сумел сохранить Виллема — это чудо, и поэтому в остальном он старается всеми способами донести до Виллема, как он ему благодарен.