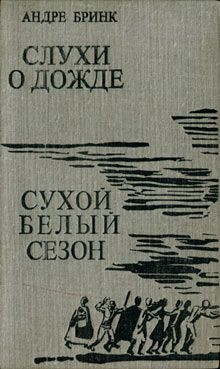Мы то и дело останавливались перевести дух и оглядеться. Старик уставал скорее, чем я мог подумать. Это не ускользнуло и от внимания Мелани. И должно быть, это ее тревожило, потому что я расслышал, как она спросила его, как он себя чувствует. «Порядок», — буркнул он досадливо, ему это явно не понравилось. Но я заметил, что она тут же стала искать всякие предлоги, чтобы лишний раз остановиться: то полюбоваться скалой какой-нибудь невероятной формы, сочной зеленью деревца или очертаниями причудливой коряги, то показывала нам что-то в долине, оставшейся далеко под ногами.
На одном совсем лысом склоне мы миновали рой хижин, они так и сгрудились роем. Жалкое стадо коз, голых черных ребятишек, играющих в иссохших от зноя кустах, одинокого старика, греющегося на солнце в дверях хижины и попыхивающего длиннющей трубкой. Он приветствовал нас, пустив клуб дыма.
— Слушайте, а не построить ли нам здесь хижину и не зажить ли тихо, мирно в этом благолепии, а? — сказал я, не знаю зачем, с тоской по молодости, по ушедшему прошлому, не знаю. — Огород вскопаем, посадим картошку, коз разведем. Огонь есть, крыша над головой тоже, а глинобитные стены хорошо защищают от непогоды. Сиди себе и смотри, как облака плывут над головой. А хоть бы и тучи, нам какое дело…
— Просто вижу, как вы сидите здесь оба и покуриваете себе трубочки, пока я делаю всю домашнюю работу, — сказала Мелани.
— Добрый старый патриархат, — отвечал я и еще посмеялся: — Лично мне нравится, хорошо придумано.
— Не беспокойтесь. Уж я позабочусь, чтобы вам скучно не было, работы по горло хватит. Детей учить станете. Ведь при патриархате детей много бывает?
Больше чем уверен, здесь не крылось ничего такого. И все-таки, когда она это сказала: «детей» — мы тут же замолчали, и не так, как молчали иногда, это было что-то совсем-совсем другое, настороженное, что ли, молчание. Она посмотрела мне в глаза, и я, залитый прямым солнечным светом, весь на виду, ответил ей взглядом. И все ее очарование, простодушие этих открытых больших темных глаз, нежная припухлость губ, волосы, чуть-чуть трепещущие на легком ветерке, и эти нежные плечи, согнутые под тяжестью дурацкого рюкзака, выцветшая ковбойка, завязанная узлом на животе, а между отцовской рубахой и джинсами трогательная впадинка на животе…
Это был миг, когда все, что имело значение, существовало само по себе, одно во всем мире, изолированное в безбрежном пространстве.
И, словно прочитав наши мысли, ее отец сорвал, не дав расцвести, этот бутон неразумной и сумасбродной романтики.
— Нельзя поворачиваться спиной к миру, — сказал он. — Не в те времена живем. Мы вкусили от запретного плода, так что путь наш — в мир грешный, иного не дано. — И тут же, казалось без всякой связи, пустился рассказывать историю, какими был буквально напичкан. — Мой старый приятель Хельмут Крюгер, немец из Юго-Западной Африки, в войну был интернирован. Но старине Хельмуту в чем другом, а в сообразительности не откажешь, умный, шельма. Посидел, посидел и однажды исчез, юркнул под грузовик, на котором в лагерь овощи возили, пристроился как-то там на раме, — он вконец выбился из сил и присел отдохнуть, — и был таков. А только вернулся он к себе на юго-запад, и что же? Ни друзей, ни соседей. Кто уехал, кого интернировали, а ему носа на улицу не показать: опознают, тут же снова арестуют. Довольно мрачная перспектива. — Он принялся набивать трубку.
— Ну и что потом? — поторопил я его.
Брувер озорно улыбнулся:
— А что ему оставалось? В один прекрасный день он преспокойно возвращается в лагерь, на том же фургоне с овощами. Можете представить себе физиономию коменданта на очередной перекличке, когда они обнаруживают одним заключенным больше по счету? — Он вздохнул. — Мораль? А мораль такова: сколько ни беги из своего лагеря, в конце концов все равно вернешься. Условия. Руссо ошибался насчет того, что человек рождается свободным, а повсюду он в цепях. Как раз наоборот. Мы рождаемся в зависимости. И уж затем, по мере собственной добродетели, либо глупости, либо храбрости, вырываемся на свободу. Пока не озарит и не вернемся в свой лагерь. Мы так и не научились пока обращаться со свободой, она нам невмоготу, видите ли! Жалкие, ничтожные создания. — Он поднялся. — Пошли. Не целый же день нам здесь штаны протирать.
— Ты очень бледен, — сказала Мелани.
— Придумываешь. — Он отер пот, и я тоже обратил внимание, как бледность выступила на его покрытом загаром лице, оно стало серым. Но он, не обращая на нас внимания, дернул плечами, поправляя рюкзак, взял свою тяжеленную палку и зашагал.
Мелани, однако, позаботилась, чтобы до захода солнца мы все-таки стали лагерем. Протиснулись в щель и оказались в маленьком убежище, наглухо защищенные со всех четырех сторон огромными валунами. Собирали хворост. Потом мы с ним оставались одни, пока Мелани ходила собирать траву, ветки на подстилку под спальный мешок. Я сидел и смотрел на нее, пока она не исчезла за гребнем скалы, бугристой и похожей на окаменелый позвоночник некоего доисторического животного. А как мило было бы моему сердцу пойти с ней, но ее «добропорядочная линия» жизни заставила меня остаться в компании с ее старым отцом.
— Что это вы такой подавленный? — спросил Брувер, и я понял, что он давно за мной наблюдает. — Вы в горах, Бен. Забудьте обо всем остальном на свете.
— Увы. — Я принялся рассказывать ему о досадах и неприятностях последних недель, исчезновении этого старика уборщика, о своем визите на Й. Форстер-сквер. — Если б они только одно мне разрешили: обсудить все начистоту, — сказал я. — Но я натыкаюсь на стену непонимания. Они просто не дают мне слова сказать. Ни спросить, ни объяснить, ни обсудить.
— А вы на что рассчитывали? Ужели непонятно, именно этого — обсудить, дать вам высказаться — они и не могут себе позволить. Ведь что значит разрешить вам задавать вопросы? Они вынуждены тем самым признать возможность сомнения. Свой же raison d’être[31] они видят именно в том, чтобы исключить эту возможность как таковую.
— Почему должно быть так?
— Потому что в этом суть силы. Грубой силы. Этим они пришли к власти, этим держатся. Сила же может исчерпать себя. — Он принялся укладывать хворостинки на место, избранное им для нашего очага. — Если у вас счет в швейцарском банке, если у вас ферма в Парагвае, если у вас вилла во Франции, если у вас интересы в Гамбурге, Бонне и Токио, если от одного движения вашего пальца зависят судьбы остальных, ох какой совестью надо вам запастись, дабы заставить себя действовать против собственных интересов. Совесть же — растение нежное, ее надобно лелеять, резкого колебания температур она не выносит.
— Тогда безумие надеяться даже на малейшие перемены.
Он сидел, как бушмен, на корточках, раздувая огонь. Солнце село, и сразу опустились сумерки. Лицо у него красное в отблесках занимавшегося огонька и от натуги, он с трудом перевел дыхание и, прежде чем ответить, сидел некоторое время, отдуваясь.
— Есть лишь два вида безумия, Бен, которых должно остерегаться, — произнес он спокойно. — Вера в то, будто мы все можем. И еще — будто мы ничего не можем.
Во тьме я разглядел ее, она шла к нам, и у меня заколотилось сердце. Какими неисповедимыми путями дает это знать о себе? Непостижимо, подобно семени, брошенному в землю, и вдруг существования его, доселе невидимого, уже никому не дано отрицать. Так и со мной. В тот самый миг, когда мое сердце угадало ее в темноте, еще прежде, чем видеть ее, идущую к нам, я понял, что люблю ее. И еще я понял, что это невозможно, что это идет против всего того, что я собой представляю, всего, во что верю.
И я стал избегать ее. Не ее остерегался, но себя самого. Конечно же, немыслимо было заставить себя смотреть и не видеть. Пока мы все втроем были заняты приготовлением ужина, я старательно не замечал ее. Потом это стало невозможно, потому что старик тотчас забрался в свой спальный мешок.
Она еще села рядом с ним и встревоженно допытывалась: что? почему? правда ли, он себя хорошо чувствует?
Он только кивнул и проворчал, что просто малость устал.
— Годы не те, — сказал он ей. — Ну, хватит об этом. Правда, что-то не по себе. Наверное, съел что-нибудь лишнее. А теперь оставь меня, спать хочу.
И вот мы вдвоем у огня. Она то и дело поглядывала в его сторону, как он, даже подошла посмотреть, дышит ли. Но он мирно спал. Когда огонь слабел, я подкладывал в наш очаг хворост, не давая огню угаснуть, и тогда сучья вспыхивали, потрескивая, и тысячи искр уносились во тьму. Иногда нас обдавало сухим дыханием ветра, а когда хворост дымил, за дымом нашего очага пропадали мерцающие звезды.
— Вас что-нибудь беспокоит? — спросил я и кивнул в сторону старика.
Она смотрела на огонь, джемпер набросила на плечи и зябко поеживалась, когда холодный ночной ветер залетал волной в наше убежище.