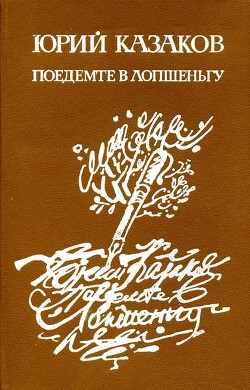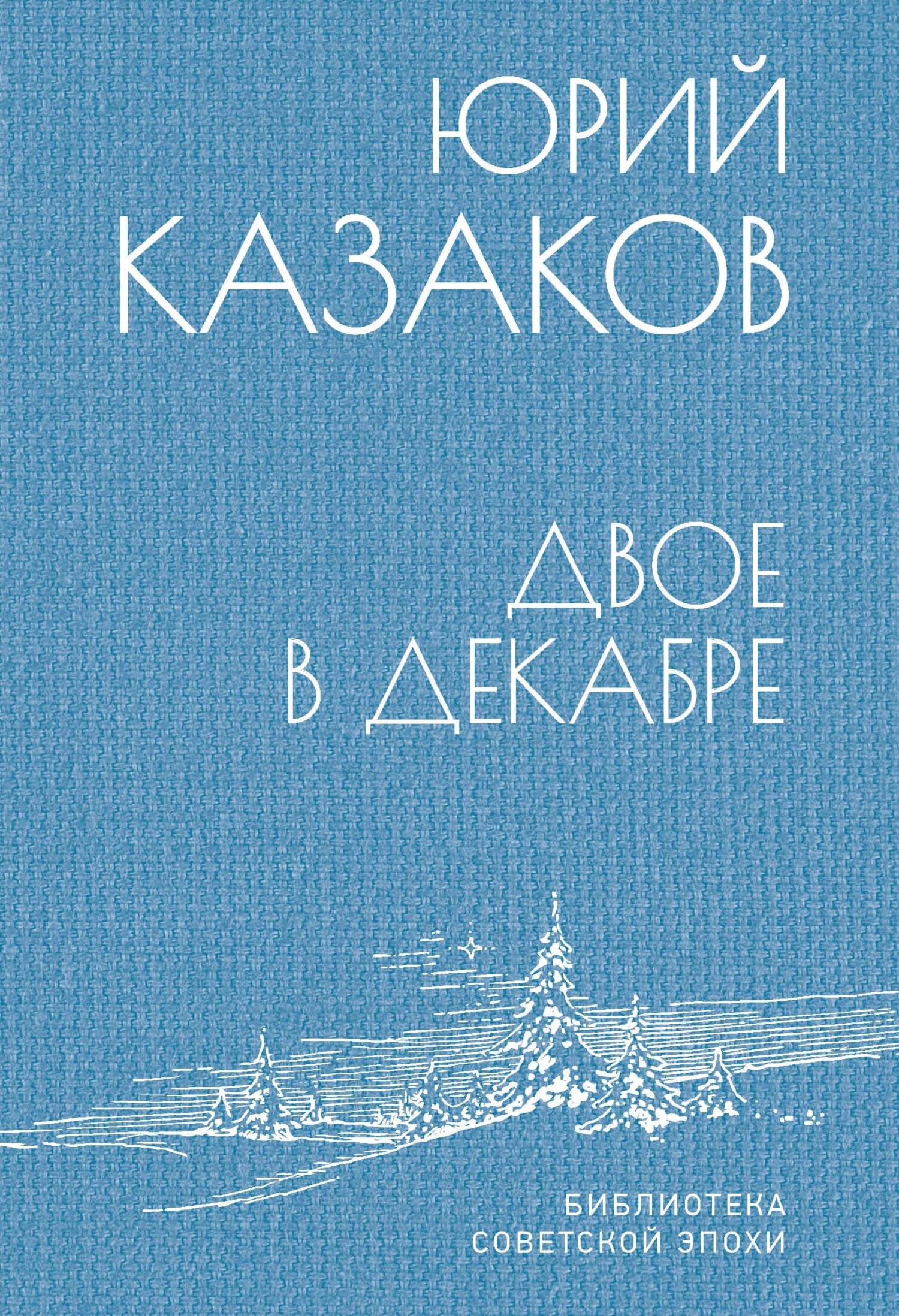— Прямо по носу бакен! Правее! Левее!
Исполнять команды для Константина Георгиевича наслаждение. Лодка-казанка идет быстро, ветер теплый, солнце сильно светит, река сверкает, а высоко в небе рассеянно стоят редкие облачка. Прелестна Ока в этих местах, прелестны ее мягкие плесы, мягкие холмы кругом, леса, подходящие к самой воде, сочно-зеленые берега, и бронза сосновых стволов, и беспрестанно открывающиеся новые и новые дали.
Где-нибудь между Велегожем и Егнышевкой мотор обычно глохнет, и мы пристаем к берегу. Балтер, чертыхаясь, возится с мотором, я купаюсь, Паустовский в стороне ловит рыбу. Потом гребем вниз. Я на веслах, — весла железные, короткие, неудобные, мотор на корме задран и безмолвен. Паустовский с Балтером загорают. Иногда Паустовский смущенно предлагает:
— Давайте, Юра, я погребу…
У Велегожа мы с Паустовским выходим, идем на пристань ждать попутного катера. Балтер остается с лодкой. Вокруг него уже несколько специалистов ожесточенно обсуждают мотор.
И так почти каждый день.
Мы сошлись однажды втроем — Паустовский, Балтер и я — на площади в Тарусе, чтобы ехать на рыбалку, и только собрались идти на берег, к избушке бакенщика, как нас обогнала серая машина.
— Вон машина Рихтера, — тут же сказал Балтер.
— Да? — Паустовский близоруко прищурился вслед машине и вдруг тихо засмеялся, опустив глаза и покашливая. — А вы знаете, Юра, что Рихтер здесь, у нас, дом себе строит? Замок! И машину себе специально купил в Америке, чтобы туда ездить…
— Вездеход, — уточнил Балтер.
— А что! — Паустовский оживился необычайно. — А что вы думаете! Туда ведь к нему только на вездеходе и ездить, иначе не проедешь. Вы знаете, ведь он сначала привез рояль в избушку бакенщика, так и жил — рояль и больше ничего…
И опять засмеялся. Было видно, что такая жизнь в сторожке и мысль, что Рихтер решил поселиться и строился тогда на Оке под Тарусой, очень нравились ему.
Места между Тарусой и Алексином открыты давно. В разное время жили тут Чехов и Пастернак, Заболоцкий и Бальмонт, А. Толстой, играл Игумнов, десятками наезжали художники на этюды, поленовская семья устраивала спектакли в Тарусе. Ираклий Андроников жил, вез вещи из Серпухова на телеге и потерял пушкинскую трость. Хотел пощеголять в Тарусе и чуть с ума не сошел. Потом трость нашли…
Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба, — умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш-Крандиевский, умер врач Мелентьев, у которого в доме двадцать лет подряд звучала музыка.
Но если раньше Тарусу знали и любили сотни людей, то Паустовский создал Тарусе всесоюзную славу, и Таруса избрала его своим почетным гражданином.
Своими ушами слышал я, как в автобусе, который встряхивало на выбоинах в асфальтовом шоссе, разглагольствовал подвыпивший тарусянин.
— Во! Видал? — говорил он, валясь на кого-то после очередного толчка. — Паустовский два мильона на дорогу пожертвовал, так? Построили шоссе. А теперь? Одни ямы… Еще, значит, два мильона давай!
Нет, не давал Константин Георгиевич миллионов на дорогу. Но благоустраиваться Таруса стала после статей Паустовского.
Популярность тарусянина Паустовского была велика. К нему в гости пытались водить даже экскурсии. Владимир Кобликов, калужский писатель, рассказывал, что выходит будто бы однажды Константин Георгиевич из бани, идет себе потихоньку с чемоданчиком, вдруг обращаются к нему приезжие люди, по виду не особенно образованные, и спрашивают: «Скажите, а где тут могила Паустовского?» И что будто бы страшно понравился Константину Георгиевичу этот вопрос и он потом любил рассказывать об этом случае.
Могила Паустовского теперь действительно в Тарусе. Над рекой Таруской. Недалеко от Ильинского омута.
А. Клитко: НЕИСЧЕРПАЕМОТЬ СЛОВА
Не раз, говоря о Юрии Казакове, отмечали его приверженность к фигурам путников, странников, к образу дороги. У него и рассказ есть с таким названием — «Странник». Да и сам он признавался, как часто толчком для замысла будущего произведения была для него та или иная поездка.
Без этой, столь неотразимо действующей на читателя черты, без вечной жажды новых впечатлений Казаков, наверное, не был бы Казаковым. Он и творческим своим самоопределением обязан той поре, когда — на рубеже 50—60-х годов — многие вдруг сдвинулись с места, услышав зов необжитых пространств, будь то целина, или бассейны великих сибирских рек, или даже просто какая-нибудь неприметная «глубинка».
«…Отчего так прекрасно всё дорожное, временное и мимолетное? Почему особенно важны дорожные встречи, драгоценны закаты, и сумерки, и короткие ночлеги? Или хруст колес, топот копыт, звук мотора, ветер, веющий в лицо, — все плывущее мимо назад, мелькающее, поворачивающееся?..
Как бы ни были хороши люди, у которых жил, как бы ни было по сердцу место, где прошли какие-то дни, где думалось, говорилось, и слушалось, и смотрелось, но ехать дальше — великое наслаждение! Все напряжено, все ликует: дальше, дальше, на новые места, к новым людям! Еще раз обрадоваться движению, еще раз пойти или поехать, понестись — неважно, на чем: на машине, на пароходе, в телеге, на поезде ли…
Едешь днем или ночью, утром или в сумерках, и все думается, что то, что было позади, вчера, это хорошо, но не так хорошо, как будет впереди».
Это — из «Северного дневника», впрочем, нечто подобное звучит и в ряде написанных тогда же рассказов.
Однако, перечитывая некоторые из них сейчас, улавливаешь порой и другое. Словно бы некую, пусть тихую, грусть. Тоску по прочному, родному, где ты всегда желанен, принят, где ты необходим и в полной мере сознаешь эту свою необходимость.
Вот и в рассказе «В город» героиня его, Акулина, тяжко заболев и в конце концов простившись с родной деревней, больше всего жалеет, что не доведется ей умереть дома и никогда уже не увидеть дорогих ее сердцу полей, реки, щемящей красоты берез и рябин, к которой, напротив, так глух, равнодушен ее муж, сопровождающий больную в город. Та же, в сущности, нота в «Легкой жизни», где снова встречаем мы поэтический образ дороги, но где в то же время непоседливому, торопливому Василию Панкову вынесен недвусмысленный приговор: никчемная душа. «Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так — перекати-поле».
А какая ностальгия по отчему дому проглядывает в одном из последних произведений писателя, «Свечечке»! Обращено оно к сыну, ребенку, это воображаемый диалог с ним, и потому слова о том, сколь важно человеку иметь не просто кров, а что-то «на всю жизнь», кажутся исповедальными.
Но как быть в таком случае с очерками и зарисовками, составившими в итоге «Северный дневник», и вообще с этой темой в прозе Казакова?
В том-то и дело, что Север для него — не только и не столько «тема», не своего рода промежуточная станция — была и вот ее уже нет! — этот край, в известной мере, — его «дом», вторая родина, недаром и сказал он однажды, что родился здесь «во второй раз». То есть именно как художник, как человек, ощутивший и силу живого слова, и неброскую прелесть прежде почти неведомой ему природы, и особый бытовой колорит. Не исключено, что, и возвращаясь время от времени на волжские плесы, в живописные уголки средней России, он и их начинал видеть как-то иначе, более, может быть, по-художнически остро и зорко.
Северные впечатления, год от года все более углублявшиеся, были живительными для писателя и в другом отношении.
Уже первые вещи Казакова привлекли внимание свойственным ему серьезным интересом к традициям классики, повышенной чувствительностью к слову. К его краскам и оттенкам, к его мелодике, столь пленительной у великих мастеров прошлого. Эту завораживающую, властно подчиняющую себе силу испытал не один Казаков, но далеко не каждому из его литературных сверстников выпало на долю столько искусов и сомнений, прежде чем удалось выйти на собственную тропу.