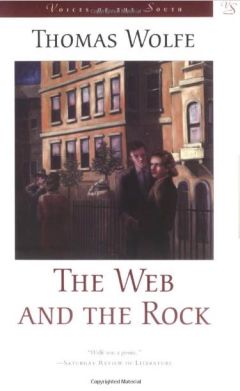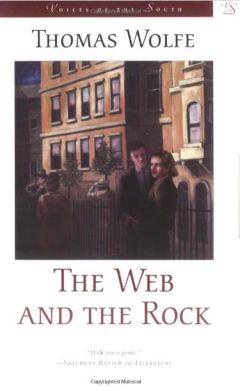И он следовал за ними мысленным взором в их комнаты. Мысленным взором видел, как они идут сперва неторопливо, с подобающей сдержанностью, постепенно ускоряя шаг, и в конце концов, свернув за угол в пустой коридор, бегут к своей комнате, лихорадочно возятся с замком, открывают дверь, запирают ее за собой, а потом с истерическим смехом набрасываются на колбасу, жадно, с чувством вины и удовольствия набивают рот лакомством.
Собственно говоря, Джордж получил неожиданное, комическое подтверждение этому. Пошел как-то оплатить недельный счет и увидел фрейлен Бар со старшим братом за едой. Он постучал в дверь их гостиной. Оттуда как раз выходила официантка с пустым подносом, и Джордж внезапно увидел их. Фрейлен, разумеется, ничего не оставалось, как пригласить его, что она сделала весьма любезно. Джордж вошел, глаза его выкатились и прилипли к столу, ломящемуся, как ему показалось, от лукулловых лакомств. Фрейлен Бар слегка покраснела, потом сказала, что они пьют чай, и предложила выпить ему чашечку. Чай! Да, чай там действительно был. Но и много чего еще. Жирные, пряные, ароматные, очень вкусные колбаски, едва не лопающиеся в своей маслянистой шкурке. Ливерная колбаса и салями, поджаристые булочки и стопки пумперникеля, восхитительные кружочки масла, великолепные баночки джема, консервы и варенья. Были сладкие, роскошные, очаровательные чудеса немецких кондитеров, покрытые консервированными вишнями, земляникой, сливами и яблоками, с плотным, толстым слоем взбитых сливок. Это было настоящее пиршество. Джордж понял, почему фрейлен Бар и ее приветливый, добродушный брат всегда так быстро наедались за столом.
Может быть, другие люди в пансионе поступали так же. Джордж не знал этого. Знал только, что постоянно голоден по-волчьи, как никогда в жизни, и что бы он ни делал, что бы ни ел, утолить или ослабить голод не мог. И дело заключалось не только в маленьких порциях. Если б он съедал втрое больше, было бы то же самое. То был голод не только утробы, но и разума, сердца, духа, который поразительно, ошеломляюще распространялся на все потребности души и плоти. Этот голод он ощутил, едва въехал в Германию, а Мюнхен обострил его и усилил. Вот таким был этот город.
Мюнхен был не просто своего рода немецким раем. Он представлял собой сказочную страну Кокейн, где вечно едят, пьют и никогда не насыщаются. Он представлял собой Scharaffenland[33] – Джорджу вспоминалось названная так картина Питера Брейгеля, где изображены жареные поросята, бегущие утолить ваш аппетит, с ножами и вилками, воткнутыми в их нежные, поджаристые бока, с кусками, отрезанными от их окороков, толстые жареные куры, идущие накормить вас, падающие с неба бутылки, кусты и деревья, увешанные сладостями и плодами.
Возможно, отчасти Джордж был постоянно голоден из-за чистой энергии альпийского воздуха. Возможно, из-за отсутствия той еды, в которой нуждался. Но не только. Неистовый голод и неутолимая жажда донимали его, и что бы он ни ел и ни пил, все было мало.
Этот голод невозможно передать, описать, нельзя подобрать к нему слово. Он был ужасным, противным, отвратительным, омерзительным. Этот голод не был голодом, эта жажда не была жаждой, то были голод и жажда, нараставшие от всего, чем Джордж пытался их утолить. Они походили на какую-то жуткую чахотку души и тела, неизлечимую, нескончаемую.
По утрам, когда горничная убирала его комнату, Джордж отправлялся погулять в английский парк, шел по Терезиенштрассе и по пути десяток раз останавливался перед соблазнами этих мучительных голода и жажды. Он всеми силами заставлял себя проходить мимо продуктовых, кондитерских, конфетных лавок. Казалось, весь город заполнен этими маленькими, обильными, роскошными лавками. Джордж поражался, как они удерживались на плаву – откуда в этой разоренной войной стране брались покупатели и деньги. Витрины деликатесных лавок сводили его с ума. Они были заполнены поразительным разнообразием аппетитных продуктов, колбасами всевозможных сортов и форм, от которых текли слюнки, сырами, жареным мясом, копчеными окороками, высокими, стройными бутылками прекрасного вина, они являли собой изобилие роскоши, сокровищницу гурманов, вызывающую у Джорджа неодолимое гипнотическое очарование. Приближаясь к одной из таких лавочек, а они были повсюду, он отводил взгляд, опускал голову и пытался торопливо пройти мимо – но безуспешно. Если бы некий чародей провел по тротуару волшебную черту, заколдовал эту лавочку, усилия Джорджа не могли бы оказаться громаднее, поражение полнее и унизительнее. У этих лавочек невозможно было не остановиться. Он останавливался перед витринами и жадно таращился, если проходил мимо одной, тут же оказывалась другая. Если заходил и делал покупку, его всякий раз преследовало воспоминание обо всех несделанных покупках, обо всех сводящих с ума лакомствах, мимо которых прошел. Если покупал один сорт колбасы, ему не давала покоя мысль о десятке других, более вкусных сортов. Если тратил деньги в одной лавке, неизбежно видел другую, так забитую товарами, что первая по сравнению с ней казалась бедной. То же самое было с кондитерскими, с их вишневыми, сливовыми, персиковыми и яблочными тортами, чудесными выпечками, покрытыми взбитыми сливками. То же самое было с конфетными лавками. Там продавались шоколадки, конфеты, леденцы, засахаренные вишни и сливы, кубики ананаса, шоколад с коньяком и ароматная жевательная резинка.
То же самое было со всем, что Джордж видел, со всем, что делал. Он хотел всего. Хотел все съесть, все выпить, все прочесть, все запомнить, все осмотреть, завладеть всем несомненным и невозможным богатством, восхитительным изобилием всей ломящейся от него земли, вобрать его в себя, поглотить, сделать своим навеки. Это было безумие, мучение, неисцелимая, необлегчи-мая, безнадежная болезнь разума, плоти и духа. Он объедался всем, что мог купить, что мог себе позволить, всем, что мог увидеть, услышать, запомнить, и все же этому не было видно конца.
Джордж ходил по музеям, этим многолюдным, бесчисленным хранилищам, в которых собраны громадные сокровища искусства. Овладевал ими, пытался поглотить их с ненасытностью немыслимой, безумной страсти. Хотел насытиться каждой краской холста, запечатлеть каждую картину в мозгу и в памяти с такой жадной старательностью, что казалось, все краски исчезнут с нее и впитаются в его глаза. День за днем он ходил по залам Старой Пинакотеки, и в конце концов настороженные охранники принялись следовать за ним из зала в зал. Он едва не совлекал со стены Матиаса Грюневальда; он уходил оттуда, унося в мозгу красивых обнаженных девушек Кранаха. Он вбирал каждую унцию розовой плоти, каждую головокружительную вселенную земли и неба с насыщенных полотен Рубенса, каждый холст в этой огромной галерее от Грюневальда до Рубенса, от Лукаса Кранаха до Ганса Гольбейна, от Брейгеля до «Четырех апостолов» Альбрехта Дюрера, от Тенирса до автора «Жизни Марии». Он все их вобрал в мозг, запечатлел в сердце, отобразил на полотне души.
По книжным магазинам Джордж ходил с той же ненасытной, безрассудной страстью. Простаивал часами перед их заполненными витринами, запоминал название книг, написанных на языке, на котором едва умел читать. Заполнял одну записную книжку за другой их заглавиями. Покупал книги, бывшие ему не по карману, которые не мог читать, и носил их повсюду со словарем, чтобы расшифровать их. Множество готических букв, этого ошеломляющего излишества немецкой культуры, сводило его с ума невыносимой, невозможной жаждой овладеть им. Он выяснил количество книг, ежегодно издаваемых в Германии. Оно казалось ошеломляющим, жутким. Более тридцати тысяч. Он ненавидел их с той же ненасытностью, которая снедала его. Недоумевал, как немцы могут это вынести, как могут дышать под таким кошмарным потоком книг.
Джордж был ужасающе стиснут, обвит, оплетен лаокооновы-ми кольцами собственного безумия. Он стремился насытиться тем, что не может питать, утолить то, что не может быть утолено, успокоить то, что не может быть успокоено, дойти до конца Unendlichkeit[34], распутать густую паутину, расплести до последней нити ткань узора, который не может иметь конца.
Стремился охватить во всей полноте, измерить во всей глубине, изречь во всей завершенности то, что само по себе неохватно, неизмеримо, невыразимо – древний германский дух, одержимую стремлением возвыситься душу человека.
А это было невозможно. Джордж сознавал это и потому ненавидел «их». Ненавидел снедавший его голод. Ненавидел еду, которую ел, потому что не мог съесть всего, что хотелось. Ненавидел всю людскую семью, потому что сам принадлежал к ней, потому что в нем была ее кровь, потому что двойники-демоны его души раздирали его в бесконечной войне. Ненавидел морду громадной свиньи, покрытую складками шею ненасытного животного, потому что сам испытывал такой же неутолимый голод и не видел ему конца. В нем таились две противоположные силы души и наследия, и теперь они ежедневно сражались на поле битвы, где победителя быть не могло, где он попался в собственную ловушку, оказался пленником собственных сил, которые составляли его сущность. Он прекрасно понимал все это, потому что оно было его созданием. И потому что сам был созданием всего этого. Люто ненавидел все это, потому что глубоко и неизменно любил. Бежал от всего этого и понимал, что убежать не удастся. Вечерами Джордж ходил по улицам. Заходил в людные места. Ему нужны были яркий, затуманенный пивными парами свет и рев, огромные рестораны. Он погружался в ревущую сумятицу Хофбрау-Хауза, включался в ритм этой ревущей жизни, ощущал тепло, бурление, прочную общность этих огромных толп, пил из глиняных кружек литр за литром холодное и крепкое темное пиво. Наслаждался жизнью, шатался, ревел, пел, орал в качающуюся людскую массу, чувствовал переполняющие его громадное ликование, безумную страсть, неутолимый голод, по-прежнему не мог достичь цели и не искал покоя.