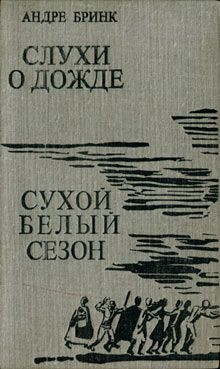— Не понимаю, я-то тут при чем?
— Ты ни при чем, я не в этом смысле. Просто ничего не изменится, как бы ты ни старался. Ничего ты не добьешься, ровным счетом ничего. Когда ты это поймешь?
— Никогда.
— И какой ценой это дается, тебе тоже безразлично?
Я устало закрыл глаза. Когда только кончится эта мука мученическая.
— Поздно об этом думать, Сюзан.
— И тем не менее придется, — отчеканивая каждое слово, сказала она. — Ты утратил равновесие и чувство реальности. Ты больше на свете ничего не видишь.
Я только покачал головой.
— А сказать, почему? — отрывисто бросила она.
Я молчал.
— Потому что, кроме Бена Дютуа, для тебя ничегошеньки на свете не существует. При чем здесь эти Гордоны, эти Джонатаны, ну кто там еще? Да кто угодно. Решимости не хватает признаться, что проиграл, вот и все. Затеял сражение, а теперь просто гордость не позволяет признать себя побежденным, хотя сам давно перестал понимать, с кем воюешь? Так?
— Тебе этого не понять, Сюзан.
— Прекрасно знаю, что мне не понять. И будь я проклята, если вообще стану отныне вникать во все это. Единственное, что меня теперь интересует, — увериться, что я не должна больше влачить это жалкое существование.
— Что ты имеешь в виду?
— Больше я ничем не могу тебе помочь, Бен. Видит бог, я старалась сберечь семью. Но теперь я вынуждена подумать о себе. Сохранить остатки чувства собственного достоинства, которое ты вконец утратил сегодня.
— Ты что же, собираешься уйти?
— Какое это имеет значение, уйду я или останусь, — сказала она. — Надо уйти — уйду. Если буду убеждена, что оставаться бессмысленно. Пока не знаю. Но то, что между нами было, утрачено навсегда. И я хочу, чтобы ты это знал.
И белая застывшая маска в зеркале. А ведь было, было же время, годы назад, когда мы любили друг друга. Теперь мне не дано даже тосковать по утраченному, ибо даже память ровно ничего не подсказывала.
Кончались каникулы. Начало школьных занятий, похоже, предвещало новое развитие событий. Новую войну анонимных телефонных звонков, очередной налет каких-нибудь вандалов на его автомобиль, лозунги, намалеванные по всему фасаду его дома, непристойные надписи на классной доске, а по ночам крадущиеся шаги под окнами. Пока он не пришел к мысли завести сторожевую собаку. Впрочем, ее через полмесяца отравили. Состояние здоровья Сюзан внушало самые серьезные опасения, о чем после очередного приступа нервной депрессии врач, вызвавший Бена для разговора, счел нужным его откровенно предупредить. И даже если не случалось ничего особенного, все равно не отпускало гнетущее чувство, что некие невидимые и неведомые силы следят за каждым его шагом. Впервые в жизни он на собственном опыте узнал, что такое бессонница, лежание часами без сна, когда пустые глаза уставлены в темноту, а в голову лезут тревожные, мучительные мысли. Когда ему будет нанесен очередной удар и какой именно, как это будет сделано на этот раз?
По утрам он поднимался вконец опустошенный и возвращался домой из школы опустошенный, опустошенный ложился, зная, что не сомкнет глаз. Школа вносила меру благотворной дисциплины в его жизнь, теперь же становилось все труднее держать себя в норме. Порой бывали такие дни, почти невыносимые физически, когда он в тревоге, постоянном раздражении чувствовал, что перестает контролировать собственные поступки. Открытое недоброжелательство коллег. Молчаливый антагонизм Коса Клуте. Плоские остроты Карелсе. Тяжелее открытого презрения остальных была порой восторженная преданность молодого Вивирса, особенно велеречивая манера ее выражать.
Оставался Стенли, появлявшийся и исчезавший, когда ему заблагорассудится. Как тому это удавалось — оставаться все-таки невидимым и неслышимым, — было выше его понимания. По всем законам логики, Стенли должны были схватить и заставить замолчать еще полгода назад. Однако же он — и Бен вынужден был это признать — был просто божьей милостью мастер на этот счет, и вот он оставался, и жил, и сидел за рулем своего такси, этого громадного «доджа». Что там жена и дети, ближе родни не было, и колесил с ним Бен по всей округе, и волоска не упало с головы Бена рядом с этим могучим хранителем. Рождество так и осталось единственным днем, когда этот человек потерял над собой контроль. Никогда больше. И если не считать тех редких случаев, когда он врывался в жизнь Бена, возникая вдруг из ночи и тут же исчезая в ней, вся остальная его жизнь как была, так и осталась полной загадкой. И лишнее было даже пытаться искать на нее ответ.
Время от времени он отправлялся в одно из своих вечных путешествий в Ботсвану либо Свазиленд. Ясное дело, контрабанда (но что? Наркотики, валюта, оружие, а может, и люди?).
В последнюю неделю января Фила Брувера выписали из больницы. Приступов после того, единственного, больше не было, однако общее состояние настолько ухудшилось, что врачи сочли необходимым рекомендовать постоянное наблюдение. Мелани пришлось, бросив все, прилететь из Кейпа. За те несколько посещений, что Бен с ней вместе видели старика, он раз от разу сдавал, и это было тягостное зрелище, как он ни старался показать, что дух его неукротим.
— Никогда не боялась умереть, — сказала она Бену. — Все, что ни написано мне на роду, приму безропотно. Столько смертей насмотрелась, что вполне спокойно все могу воспринять. — Она поглядела на него своими огромными карими глазами. — Но его боюсь потерять.
— Вы раньше никогда не говорили, что боитесь одиночества.
Она задумчиво покачала головой:
— Не в этом дело. Узы. В полном смысле слова. Идея продолжения рода. Осознание незыблемой прочности. То есть может меняться все вокруг, одно неизменно, сколько вы себя помните. Как река, что всегда впадает в море, и в вас сознание уверенности, вера, что ли, не знаю, как это выразить, что так и будет во веки веков. Знаете, порой мне кажется, именно поэтому я так до неистовства хотела иметь ребенка. Ну, чтобы ничего не кончалось. — Они тут же засмеялись, принужденным таким смехом, — стараясь обратить все в шутку. — Видите ли, каждый ищет собственную зацепку, лишь бы остаться в вечности? Верят же в деда-мороза.
12 февраля. Теперь еще Сюзан. Последние несколько дней она явно не в себе. Думал, просто очередной приступ депрессии, хотя она принимает успокаивающие средства. Теперь и вовсе в непомерных дозах. Однако на этот раз все оказалось куда сложнее и хуже. Южноафриканская радиовещательная корпорация аннулировала контракт с ней. Выдвинули в качестве доводов что-то о необходимости влить «свежую кровь», как всегда, «бюджет поджимает» и т. д. Однако продюсер, с которым она всегда работала, выложил ей за чашкой чая всю правду. Она — моя жена, и они не хотят лишних осложнений. Никто не знает, с каким еще скандалом может быть вдруг связано мое имя. Откуда ветер дует, он понятия не имеет, его начальство просто сказало ему, что у них есть «информация».
Вчера вечером это и случилось. Я вошел в спальню, а она сидит и ждет меня. После того злополучного рождества она перебралась в спальню девочек, а тут вдруг вхожу и вижу: она в ночной сорочке, не в халате даже, сидит у меня на постели. Сидит и вымученно улыбается, а у самой лицо дергается.
— Ты еще не спишь? — спросил я зачем-то.
— Тебя жду.
— Знаешь, я еще должен поработать.
— Неважно.
Господи, сколько тривиальных, пустых фраз мы произносим.
— А мне показалось, ты сегодня в театр собираешься, — сказал я.
— Нет, раздумала. Нет настроения.
— Тебе полезно развлечься.
— Я очень устала.
— Последнее время это твое обычное состояние.
— Тебя это удивляет?
Раздраженно:
— Я во всем виноват, это ты хочешь сказать?
Она не искала ссоры, это видно было по испугу, мелькнувшему у нее на лице.
— Извини, Бен. Пожалуйста. Я пришла не упрекать тебя. Просто так дальше не может продолжаться.
— Да. Так или иначе, а скоро это кончится, уверен. Это всякому ясно.
— Я только одно и слышу от тебя. Откуда эта уверенность? Чем кончится? Неужели ты не видишь, что день ото дня становится только хуже? Хуже и хуже.
— Нет.
Тогда она рассказала мне эту историю с радиовещательной корпорацией.
— Ведь это единственное, чем я еще держалась, Бен. — Она заплакала, хотя я видел, что она крепилась изо всех сил. Я стоял, смотрел на нее и не знал, что делать, просто руки опустились. Когда такого рода вещи происходят исподволь — ведь жизнь есть жизнь, — не замечаешь перемен. А вчера, сам не знаю зачем, я стал разглядывать нашу с ней свадебную фотографию над туалетным столиком. Эта лучезарно улыбающаяся, полная достоинства, сильная, налитая здоровьем девушка с золотыми волосами и эта усталая пожилая женщина в ночной сорочке с кокетливыми кружевами не по возрасту, оставляющей зачем-то открытыми руки с дряблой уже на плечах кожей и морщинистую шею, с сединой в волосах, что не скроешь уже никакими ухищрениями, лицом, некрасиво перекошенным в плаче, — одна и та же женщина? Моя жена? И моя вина?