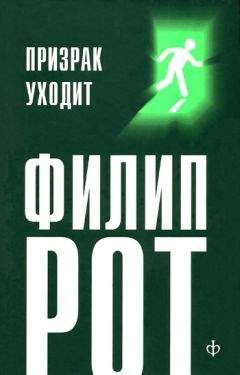— Отец отдал голос за Буша, — произнес он с таким удивлением, словно речь шла о том, что отец ограбил банк. — Мама сказала. А когда я спросил почему, ответила: «Из-за Израиля». Она почти уговорила его проголосовать за Керри, но, выйдя из кабинки, он сказал: «Это ради Израиля». «Я чуть его не убила, — сказала мама. — Но он все еще убежден, что они обнаружат оружие массового поражения».
Вернувшись в отель, я набросал вот такую сценку:
ОН: Вы не сказали, что мы уже виделись раньше.
ОНА: Думала, ни к чему. Не ожидала, что вы помните.
ОН: А я думал, что, вероятно, не помните вы.
ОНА: Нет, я все помню.
ОН: Помните, где мы увиделись?
ОНА: Да, в «Печатке».
ОН: Правильно. А тот день помните?
ОНА: Отчетливо. Я была членом «Клуба печатки», хотя в общих ланчах почти не участвовала. Но тут позвонила подруга, сказала, что пригласила вас на завтра и не уверена, что вы придете, хотя и обещали, но мне нужно быть в любом случае. Вот я и пришла. Взяла с собой Ричарда, и, к счастью, место было за вашим столом, а не за тем, что в соседней комнате. Я села, вы пришли, сели за наш стол, и все время ланча я на вас смотрела.
ОН: Молчали, но разглядывали.
ОНА (смеется, как бы извиняясь): Простите, если вела себя нахально.
ОН: А я тоже смотрел на вас. И не только в порядке самозащиты. Вы это помните?
ОНА: Я думала, мне это просто кажется. Никак не могла поверить, что вы откликнулись на мой взгляд. Не верилось, что вы меня выделили. Я считала вас недоступным. Вы правда помните, как сидели там, напротив?
ОН: Прошло всего десять лет.
ОНА: Десять лет — большой срок, чтобы кто-то, с кем ты не сказал ни слова, остался в памяти. Какой я вам показалась?
ОН: Не смог понять: вы застенчивы или просто спокойны и сдержанны.
ОНА: И то и другое.
ОН: А на чтении накануне вечером вы были?
ОНА: Да. Помню, как уже после ланча сидели на кожаных диванах в гостиной. Осталось около половины пришедших. И я подумала: как он, наверное, странно себя чувствует. Взяли в тиски и ждем, чтобы он сказал что-то, что можно будет, вернувшись домой, записать в дневнике.
ОН: И, вернувшись домой, вы действительно сделали запись в своем дневнике?
ОНА: Надо проверить по дневнику. Это вполне возможно. Если хотите, я так и сделаю. Все мои дневники в целости. А что вы думали в тот день?
ОН: Не помню. Для меня это было рутиной. Обычно приглашали на встречу в аудитории. Я проводил ее, прощался и уходил. Но все же: почему вы не упомянули о той встрече, когда мы сейчас увиделись снова?
ОНА: Упоминать, что когда-то пялилась на вас за ланчем? Зачем? Я, разумеется, не считала это какой-то тайной. Но мы разговаривали об обмене. Странно казалось вспоминать, что однажды в колледже, сидя среди студентов, разглядывала вас. А вот вы почему согласились тогда на ланч в компании желторотых юнцов?
ОН: Наверное, подумал, что это может оказаться интересным. В предыдущий вечер я целый час читал вам, а потом выслушал ряд вопросов. Не познакомился ни с кем, кроме тех, кто меня пригласил. Не помню ничего, кроме вас.
ОНА (со смехом): Вы флиртуете?
ОН: Да.
ОНА: Это так странно — трудно поверить.
ОН: Это категорически неуместно. Но вовсе не странно.
Перечитав эту сценку в постели, я, засыпая, подумал: вот именно этого и нельзя было делать. Ну а теперь ты врезался в нее по уши.
На другой день в Нью-Йорке было мрачно. Люди бродили по городу, затаив ярость, хмуро, все еще до конца не веря. Стояла тишина; машин так мало, что их едва слышно в Центральном парке, куда я пришел, чтобы встретиться с Климаном — на скамейке, около выхода к музею Метрополитен. Вернувшись около полуночи с Семьдесят первой Западной, я обнаружил голосовое сообщение. Его легко можно было проигнорировать — и именно так я и собирался поступить, — но колдовство внезапного погружения в прошлое и возбуждение при мысли о возможности встретиться с Эми Беллет, чей адрес я, вероятно, сумею у него узнать, заставили меня наутро позвонить Климану по оставленному им номеру, хотя накануне я дважды обрывал разговор не прощаясь.
— Калигула идет к победе, — сказал он, сняв трубку и явно предполагая услышать кого-то другого.
— Похоже, так, — ответил я после секундной паузы. — Но сейчас говорит Цукерман.
— Печальный день, мистер Цукерман. Я все утро чувствую себя так, словно меня искупали в дерьме. Я не верил, что это случится. Народ проголосовал за моральные ценности? О каких ценностях идет речь? О лжи, приводящей к войне? Идиотство! Полное идиотство! Верховный суд? Ренквиста уберут уже завтра. Буш сделает председателем Кларенса Томаса. Проведет два, три, может быть, даже четыре новых назначения. Это кошмар!
— Вчера вы оставили мне сообщение и просили о встрече.
— В самом деле? — Он удивился. — Я совершенно не спал. И никто из знакомых не спал. Позвонила одна подружка — библиотекарша с Сорок второй — и сказала, что люди сидят на ступеньках библиотеки и плачут.
Театральность эмоций, вызванных омерзением проводимой политики, была мне отлично знакома. Начиная с 1965-го, когда выступавший за мир кандидат Линдон Джонсон в мгновенье ока сделался вьетнамским ястребом, и до 1974-го, когда, едва избежав импичмента, ушел в отставку Ричард Никсон, театральность присутствовала в реакции почти всех, кто меня окружал. Разбитые горем, подавленные, на грани истерики или, наоборот, ликующие, впервые за десять лет получив ожидаемое, мы могли успокоиться, только сыграв спектакль. Но теперь я был просто сторонним наблюдателем. Не вмешивался в переживаемую обществом драму, и она, в свою очередь, не вмешивалась в мою жизнь.
— Религия! — кричал Климан. — А почему бы им не поверить в способность обрести истину с помощью непредвзятого взгляда? Допустим, теория эволюции не годится, допустим, Дарвин нес чушь. Но все-таки это меньшая чушь, чем теория происхождения человека, выдвинутая в Книге Бытия. Эти люди не верят фактам. Не верят, как и я не верю их религии. Мне хочется выйти на площадь и выступить с речью.
— Не поможет, — сказал я ему.
— Вы всякого насмотрелись. А что поможет?
— Уловка старого маразматика: взять и забыть.
— Вас маразматиком не назовешь.
— И все-таки взял и забыл.
— Забыли абсолютно всё? — спросил он, на ходу строя отношения, которые при удаче можно использовать с толком: этакий юноша, с трепетом задающий вопрос человеку постарше, дабы получить его мудрый совет.
— Всё, — подтвердил я, почти не покривив душой, и так, словно в самом деле проглотил наживку.
Когда я подошел к скамейке, у которой мы уговорились встретиться, Климан, рысцой обегавший зеленый овал лужайки Центрального парка, приветственно помахал мне издали. Поджидая его, я думал, что, сделав первую ошибку — приехав в Нью-Йорк для коллагеновой процедуры, потерял способность действовать продуманно и оказался втянут в изгибы и беспорядочность новизны, к которой вроде бы не имел ни малейшей тяги. В семьдесят один год разрушить прочный фундамент жизни и отказаться от ее предсказуемости? Да ведь это чревато потерей ориентиров, крушением и даже полной гибелью!
— Хотелось очистить голову от дерьма, — сказал Климан. — Думал, пробежка поможет. Не помогла.
Да, это был не добродушный круглолицый Билли. Вес — восемьдесят с лишним килограммов, рост не меньше метра восьмидесяти трех, крупный, живой, внушительный самец с густой шапкой темных волос и светло-серыми глазами, которые притягивали, как это и свойственно светло-серым глазам представителей человеческого вида. Красивые и словно втиснутые в глазницы. На первый взгляд (который может быть и неправильным) казалось, что он скован пронизавшим весь организм удивлением и уже сейчас, в двадцать восемь, придавлен нежеланием мира безропотно подчиняться его красоте, его силе и всем настойчивым желаниям, для которых он и создан. Да, именно это читалось в его лице — гнев перед неожиданным и нелепым сопротивлением. Без сомнения, этот любовник Джейми во всем отличался от юноши, чьей женой она стала. Если Билли обладал мягким выверенным тактом готового подставить плечо брата, в Климане сохранилось немало от драчуна со школьной спортплощадки. Я почувствовал это, когда он позвонил мне в отель, и теперь впечатление подтвердилось. В его девизе не значилось слово «самоконтроль». Как вскоре выяснилось, не значилось и в моем.
В спортивных шортах, кроссовках и волглом от бега свитере, он удрученно плюхнулся рядом со мной на скамейку, упер локти в колени и спрятал лицо в ладони. Пот капал с него — и в таком виде он заявился на встречу с тем, от кого зависит успех первой его попытки прорваться в профессию, с тем, кого он стремится завоевать. Как бы там ни было, твердый стержень в нем есть, подумал я, а карьеризм, может быть, и присутствует, но не в той скользкой, эгоцентрической форме, которую я заподозрил во время первого разговора.