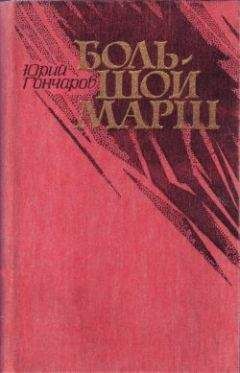И только когда по улицам, из двора во двор, стали ходить немцы с переводчиками и объявлять то же самое, что содержалось в приказах, не слушая никаких просьб и жалоб, все окончательно поняли и почувствовали, что никому в подвалах и своих углах не отсидеться, в приказах – неумолимая беспощадность, ее не разжалобить, не обмануть, не обойти.
К нам на двор тоже пришли два немецких солдата, один – немолодой, с какими-то знаками на погонах, другой – просто для охраны, с автоматом, совсем мальчишка, с худой детской шеей в слишком свободном для него воротнике. И с ними – женщина-переводчица в белой кофточке с манжетами, синей шевиотовой юбке, сбитых о камни туфлях. По-русски она говорила чисто, без акцента. Она сказала: вещей не брать, только самое необходимое, не больше пяти килограммов на человека, все вы скоро вернетесь обратно, вот только дальше продвинется фронт. Все указания немецких властей на пути следования – это она повторила дважды – надо соблюдать точно и неукоснительно.
Переводчице было лет тридцать; бледное, некрасивое лицо, заостренное книзу, блеклые глаза слегка навыкат, голос – негромкий, без оттенков и личных чувств. До нашего двора она уже множество раз повторяла произносимые ею слова, которые ей приказали говорить, и они звучали у нее совсем механически, как будто внутри нее крутилась граммофонная пластинка.
– Если вы будете лояльны, будете послушно повиноваться, – раздельно и четко говорила она продиктованные ей слова перед молчащей, оробелой толпой, вызванной из подвала, – если не будете агитировать против немецких солдат и офицеров – с вами не произойдет ничего дурного. Если же допустите неповиновение, враждебные действия словом и делом против немецких властей – пеняйте на себя, вас накажут по законам военного времени…
Повиноваться, повиноваться! Сколько пришлось нам слышать потом разных других переводчиков и переводчиц и самих немцев, их картавый, коверканный русский язык – и всегда главными и основными в этих речах, внушениях и приказаниях нам, мирным жителям, женщинам, старикам и детям, были эти непременные слова: повиноваться! Безропотно признавать немецкую власть, выполнять каждое распоряжение, каждый пункт установленного порядка. И, тоже непременно, обязательно в конце следовало напоминание, чем грозит любое неподчинение, любое сопротивление немецким приказам, немецкому начальству: будете жестоко наказаны, арестованы, расстрел, расстрел, расстрел…
Когда переводчица и сопровождавшие ее солдаты ушли, началось взволнованное обсуждение слышанного: как это так – ничего не брать? Все свое имущество оставить в квартирах? Ведь оно же пропадет, наверняка пропадет! Кто-нибудь непременно этим воспользуется, начнет лазить, грабить… Да сами же немцы… Что значит – скоро все вернетесь? Когда – скоро? До сентября уже рукой подать, значит – дожди, слякоть, холод. Обязательно надо брать теплую одежду, осеннюю обувь. А одежда, продукты, посуда для приготовления еды – разве в пять килограммов все это уместить? Неужели немцы станут отбирать, если взять больше? А почему нет, вон ведь как она говорила: послушно повиноваться! Пять – значит, пять… А может, все же не отберут! Например, детское? Детей-то уж должны они пожалеть, неужели так уж совсем не люди, никакой жалости в ихних сердцах нет?
Старик в белой панаме, – он стыл в сыроватом погребе и последние дни поверх холщовой толстовской рубахи навыпуск со шнурковым пояском постоянно носил ватный жилет, – после утраты своих часов полностью переменивший к немцам свое отношение, послушав женщин, сказал:
– Цель их вполне очевидна. Нас они выгонят, все добро останется на своих местах, а это им и нужно. Они его спокойненько соберут – и в Германию. Это они врут – что не хотят напрасных жертв среди населения. Очень это их заботит! Это просто задуманный грабеж, вы же видите, какие они наглые воры…
– А кто говорил – нация Шиллера, Гете, триста лет высокой культуры…
– Было! Было – да, значит, сплыло…
Старших девочек больше всего занимало – русская ли переводчица и по своей ли охоте она стала у немцев переводчицей.
– Если бы не по своей – это было бы видно. Она бы не так говорила, у нее бы в лице жалость была, сочувствие. Она бы нам от себя хоть слово, полслова сказала, – немцы-то ведь не понимают, что она говорит… А она вон как себя держала – как селедка маринованная… А вы заметили, девочки, кофточка на ней отглаженная и даже губы подкрашены. Красится, вы подумайте, такое происходит – а она губы красит! Небось и помада ихняя. Паек от них получает! Где-то столько лет обреталась, кем-то работала, и никто не знал, какая она на самом деле… Скорей всего – учительница, немецкий преподавала, так – откуда ей его знать?
День этот запомнился мне не только переводчицей, еще и тем, что был он сумрачный и непроглядный, как серая ночь, из-за дыма и смрада, нависшего над городом. Пожары, начавшиеся еще до появления немцев от их бомбежек, расползались все шире, город горел одновременно в десятках мест. Но в предыдущие дни гарь и копоть сносило ветром. А в этот день ветер переменился, и весь дым с городского нагорья пополз вниз, густо наполнил улицы. В несколько слоев он заволакивал небо. Солнце не проглядывало, будто и не всходило, во мгле лишь изредка показывался бледный белый диск, похожий на луну. От дыма у всех резало глаза, точило в груди и горле. Поползли разговоры: конечно, надо из города уходить, пожаров все больше, немцы их не тушат, им это ни к чему, а мы все так пропадем: или сгорим, или задохнемся от дыма…
Выселение из города немцы установили в несколько этапов. Первыми должны были оставить свои дома живущие в районе завода Коминтерна, городского холодильника, стадиона «Динамо», улицы Ленина, вокзала, на том краю, что раскинулся на буграх и оврагах возле бывшего Девичьего монастыря. А также жители всех низовых, приречных улиц.
Наша Халютинская и наш дом попадали в эту первую очередь, и в день, когда на военный городок потянулось шествие народа, – кто с чемоданами, кто с рюкзаками, кто – положив свой скарб в детские колясочки, – мы с мамой, взвалив на себя свои мешки с одеждой и продуктами, что у нас еще оставались, пошли на Верхнюю Стрелецкую к бабушке. Вернее – к бабушкам.
По дороге мы разговаривали, все о том же – как нам их забрать с собою. Опять ничего не придумывалось, и мама была очень удручена. Все дни до начала выселения она пыталась разыскать кого-либо из наших городских родственников, попросить у них помощи. Кто-нибудь, наверное, согласился бы помочь, но ни о ком из них мы ничего не знали с того дня, как вошли немцы, и никого не удалось найти, потому что в городе, объятом пожаром, простреливаемом артиллерией и минами, редко кто оставался на своем обычном месте, все где-то прятались: по щелям, котельным или, как мы с мамой, в подвалах. Получалось ужасно обидно и несправедливо: такая большая была когда-то вокруг бабушки семья, столько вместе с бабушкой Олей вырастили они детей и внуков, и вот такая беда, такие жуткие дни, так нужны им помощь и поддержка, а бабушки совсем одиноки, если не считать нас с мамой, которые тоже не могут для них ничего сделать… Два бабушкиных сына, мамины братья, жили – один в Ефремове, другой в Борисоглебске; каждый год они навещали бабушек со своими семьями на праздники, приезжали гостить в свое отпускное время, но в сорок первом их призвали в армию – и про обоих давно уже ничего не слыхать. Третий мамин брат, дядя Леня, самый молодой, тридцати лет, не женатый, до войны жил с бабушками, но его тоже призвали в армию в первый же месяц. Последнее письмо пришло от него еще весной, откуда-то с юга; там тогда как раз закипали жаркие бои… Бабушкин дом стоял близко от Кольцовской, окнами на пожарную часть, которая и теперь находится на этом же месте. Мне всегда нравилось приходить к бабушке. Во-первых – чтобы посмотреть на пожарников. Двери их здания почти всегда бывали открыты, внутри виднелись красные, сияющие медью и никелем автомобили. Иногда один или два автомобиля стояли на асфальте возле гаража, пожарники мыли их из шлангов, чем-то натирали медные части, чтобы они сверкали как золото. Мне хотелось, чтобы где-нибудь загорелся пожар, чтобы у пожарников пробили тревогу и они поехали его тушить. Однажды я такое видела, это было захватывающее, жуткое и одновременно эффектное, красивое зрелище: могучий рев могучих моторов, оглушительный звон медного, сверкающего колокола на переднем автомобиле, пожарники, стоящие в ряд на подножках своих бешено мчащихся машин: все богатыри, в грубой брезентовой одежде, в блестящих гладиаторских шлемах, с топорами на широких брезентовых поясах… Но пожаров, к моему огорчению, не случалось, всегда, когда я бывала у бабушки, автомобили стояли праздно, бездеятельно. Когда же начались немецкие налеты и начались пожары и пожарные машины то и дело с ревом сирен мчались по городу то в один его конец, то в другой, это было уже не зрелище, которое хотелось смотреть, а беда, от которой все сжималось внутри…