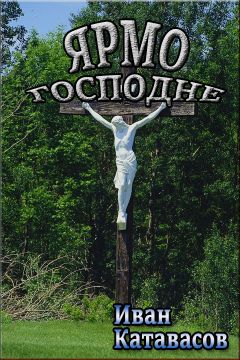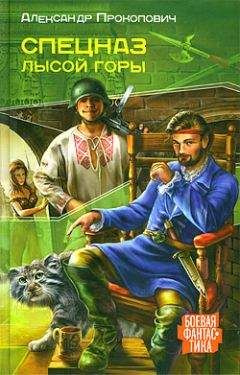Шел я, глядел вперед, словно капитан корабля, в море этих полей да холмов, дальних рощ и буераков, да тихих крыш попутной деревни Погорел-ки — и вдруг... вдруг... вижу... батюшки! Натянулись провода вдоль дороги, вскочили и в ряд выстроились столбы! Мне говорили старики, что линию тут телефонную проложили в 1958-м году, натянули в полях сверкающие медные струны, один их знакомый связист прокладывал эту линию. И травы такие — тугие, сверкающие вдруг кругом стали, небывалым лоском блестят, и цветики в них зацвели — да ясно, жгуче как, и воздух стал вдруг еще чище, — и вижу вдруг я — подводы идут в мою сторону от лыщёвской рощи, от дальних берез! Бегут лошадки в ряд, головами кивают! И вот я вижу — едут, едут ожившие, из небытия нашего кузьминского кладбища восставшие, вот они все — живые предо мной! Едут прямо на меня — и столько деток на краях подвод, как на картинах Ефима Честнякова, и мужики в ватниках да кепках, и молодые парни с вихрами, в распахнутых рубахах, и дебелые девки, и бабы в платках — едут и о чем-то разгоряченно толкуют, и отирают пот со лбов тяжелыми кистями! Впереди председатель — строгий, словно из скалы вырубленный, в кепке, с кожаной командирской сумкой, что с войны он привез, в кулак намертво собравший вожжи, и мужику какому-то, внимающему сурово, и громко что-то так толкует, и пальцем тычет, и уж слышу — кричит: «А эту из колхоза уволить! У ней не телята, а одни свиданья на уме! И мамаша еённая точно такая же — прямая курва! Всё — уволить!» А тот ему кивает и кивает, карасиными глазами в глаза глядит, трепеща мелкой бородкой и хитрой кудрью. Едут, едут — всё ближе, ближе, и уже видать — до чего ж красив председатель, в самой силе мужик, — не из древних ли волжских разбойников он породой, что через окна изб одним махом рук выкрадывали невест и бросали поперек коня; до чего же ладен он и складен, хотя и прост, как злак этого самого поля, как вздернутый полевой куст, как мускул молодой сосны или ели, что в войну здесь все срубили и в город отправили на дрова. Тёмно-загорелый он, сердит и велик, эта кипящая личность, и глаза его созидающим кузнечным огнем горят. А дети глядят друг на друга, как святые на фресках в церкви нашей, и непорочны, и свято просты эти дети, они из Евангелия, а не школьники из окрестных, на всю округу тогда еще мычащих, кукарекающих, ржущих и гремящих ведрами деревень. И бабы молодые едут, разному личному лыбятся-жмурятся, смеются вешнему расцвету своему, как солнцу, и женихи вскидывают вихры, задирают девок щипком или взглядом, и тяжелые, уже мужицкие руки кладут другу на плечо, говоря с товарищем, а которые влюблены — опускают локти на колена и бритые подбородки на кулаки, и думают, и глядят долу, и клевер жуют, горюя и томясь сладко, и бабкину протяжную песню сквозь зубы мычат, что вспомнят из неё. Свежим сеном пахнет с телег, мужики вскрикивают, хохочут о чем-то своем, степенно и командирски взглядывают на парней, а на девок глядеть толку нет — чем их проймешь, визг один от них и синичий щебет, и всполохи голубизны из-под бровей, и полыханье челок под солнцем. Едут, едут навстречу, из самой высоты трав восстают — и никак не приблизятся ко мне, хоть и вижу я уже домотканые их рубахи, сельповские пиджаки и кепки, и трепещущие косынки девичьи, и крепкие серьезные лица, и волосы русые, и сапоги, и слышу гром телег, долбящих по кочкам, и дыханья и всхрапы лошадей, и говор человеческий громкий, оживленный — только никак не разобрать мне, что говорят! И веселит ноздри пахучей смолью столбов телеграфной линии — сверкают поверху свежей медью только что натянутые провода цивилизации, от которой столького ждут они, которая такой представляется им успешной, важной и всё дающей, такой шикарной и городской, и так они хотят поскорее попасть в нее, уже зная про первый спутник, уже имея в каждой избе висящее радио на гвоздике, вбитом в дедовские обои в лазоревый цветок, и электролампу, под светом которой дети старательно сопят все за одним столом, делая уроки, осторожно тыкают перышком, выводят и притрагиваются промокашкой, боясь завтра предстать перед Анной Николаевной с несделанным домашним заданием по математике...
При мне снесли эту линию, я видел обломки столбов, а теперь и их уже не разглядел в дикой высоте клеверов и травы.
Ах, как хорошо мне было идти здесь, в этом целительном, словно неземном вакууме всеместной чистоты и простора, под этим бескрайним покрывалом неба, под этими густыми клубами и дальними горами облаков, в липкости живительной воздуха этого, в добром и покойном золотом свете сумерек, в первых прохладных обветриваниях грядущей из простора ночи. Опять пустая передо мной тянется старая дорога, две землистые колеи. Нет, нет, не всё прошло ещё, не ушло виденье! Нет, конечно же — вот они, идут одни, во блаженстве тонут в счастливо дальнем и пустом, как бескрайнее одеяло сокрывающем и ласкающем просторе — он и она, Адам и Ева: в рубашке белой и штанах широких с мелким ремешком, в деревенских ботах Адам, и в ситцевом платьице с узором в одинаковый стройный цветочек, в летящих босоножках Ева — ну и молоды! И так всё радо им — и цветы в глаза смеются счастливо, и иван-чай приветливо кивает, как положительный театральный персонаж, и небо звенит и во весь голос поет, и пчелы, и стрекозы такие пируэты выделывают, как циркачи, и свежи, так свежи вдали березы, и так сами они, Адам и Ева, похожи на их струящуюся листву, и пыль у них такая под ногами нежная и чистая, как детская совесть, и такими озорными клубинками пыхает под ее босоножками каждый шаг! А волосы ее потоком по недорогому мамкиному платьицу опадают, как струи фонтана, и ждущей томностью полно приоткрытое плечико под съехавшим ситцем. А он — широк в плечах, складен в руках, крепок в шагах, прическу его «фокстрот» (в город ездил!), как знамя, раздувает на ветру, и глаза такие ясно-брызжущие влюбленной страстью, как ограненные драгоценные камни. Идут этой дорогой и болтают какую-ту тающую в любви чепуху, какую-то простодушную игру ведут, пустякам смеются, как дети, утопая всем существом в таком, что и небо, и даль, и траву, и само солнце застилает, поглощает собой, утопляет червонным сгустком молодой силы, душевном биении. А у нее руки так нежно смуглы, и такой на шее невесомый пушок, и такие плечи мягкие да покатые, и так ступает она, шаг выстилает, как царевна, и так вздрагивает при этом ее стан... Одни парят в просторе Божьем! Нет-нет — рассмеются, а вот вроде бы и всерьез о чем-то заговорят — да куда ж, когда такие глаза, такие брови, такая молодость, да и день такой над ними чистый да струистый, да жаркий, да как трава-то ярка и цветы, да каким теплым песком дорога под ногами... «Хоть бы он что-нибудь... Хоть до плеча пусть дотронется, хоть ладонь немножко положит... Люблю ведь его, знаю, что люблю... я бы дальше-то... Пусть хоть на шею мне, что ли, подует...» Колосья так и звенят кругом, кажется — в самом небе качаются, ветер по молодым плечам широкой ладонью водит, мамкино платьице волнует, и вдруг Волга внизу с горки показалась — и тоже улыбается им, как строгая, но добрая учительница, и разрешающим наставленьем горящее недвижное серебро свое кажет из-под косогора. И вдруг дотронулся он — взялся ладошкой за ладошку, и такая ладошка у него родная, обнимающая, словно всю жизнь с ним были вместе. Она свою не взяла, оставила, как пулемет ударило сердце, — и немного еще какие-то слова говорили они, шли, брели этой самой дорогой, пока, наконец, изнемогая от любви, счастья, страха и невообразимо сладких томящих мук, не сошли неизвестно почему с пыльных изъезженных колей, не побрели по клеверу, не бросилась она к нему всей силой, всем своим доверчивым счастьем, не обнялись осторожно, впервые постигая тело и запах друг друга, и, охваченные первобытной дрожью, не опустились, наконец, в траву, — а с Волги во всё горло гудит в их честь пароход «Крестьянка»! — новую завязь возвещает, и крылья белые в горней вышине помахали, и грянуло на небесах: «Молодцы, молодцы! Правильно! Сказал Господь: плодитесь и размножайтесь! Да будет вам подмогою всё вокруг — и край этот ваш ангелом летящий, и небо без берегов, и парное молоко вашей молодости, и пусть каждый цветок глядит вам в глаза, как добрый человек!»
Свадьбу-то скоро сыграли; быстро понадобилось. Она косу с назиданием сплела в тугой колос, руки крепко скрестила, молодую грудь ими тесня, брови по-офицерски нахмурила, дерзко глядит через плечо — такая строптивая стать, так ладно домашним халатом чресла обтянуты, как статуя стоит в деревенских тапках — и всем теткам, бабкам да мамкам с молодою девичьей грозой, с ураганом, с древней разбойничьей песней в голосе, сверкая серыми глазами: «Иду за него! А коль вы поперек полезете с советами да запретами — до сведения довожу: много на Волге омутов да ям, хватит на рост мой девичий. А для диспутов ваших у меня досугу нет. И комсомол не поможет! Сказала — иду. Всё!» Отец повздыхал — да что в таком случае поделает отец... Сидит у печки на корточках, топориком мечет щепу, только матерится потихоньку и психует. Не пороть же ее — взрослая стала, стыдно. Задница-то вон какая тугая — как у бабы.