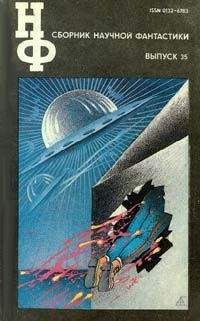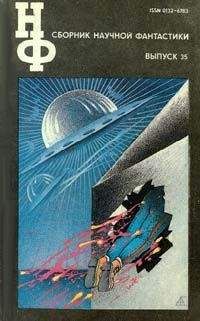Последние слова потонули в нарастающем гуле неземных балалаек – их звук был так невыносим, что в зале, уже не стесняясь, стали кричать во все горло.
Вдруг у Любочки возникла спасительная мысль. Что-то подсказало ей, что, если она сможет встать и выбежать в коридор, все пройдет. Наверное, похожие мысли пришли в голову и остальным – Шушпанов, качаясь, кинулся к окну, баба в оранжевой безрукавке полезла под стол, сообразительный Каряев уже тянул руку к черной кнопке радио, намереваясь выключить его и посмотреть, что это даст, – а Любочка, с трудом переставляя ноги, заковыляла к двери. Неожиданно погас свет, и пока она на ощупь искала ручку, на нее сзади навалилось несколько человек, охваченных, видимо, той же надеждой. А когда дверь, к которой Любочку прижала невидимая сила, все же раскрылась, оказалось, что троллейбус уже тронулся и теперь надо прыгать прямо в лужу.
Девятый сон Веры Павловны
Здесь мы можем видеть, что солипсизм совпадает с чистым реализмом, если он строго продуман.
Людвиг Витгенштейн
Перестройка ворвалась в сортир на Тверском бульваре одновременно с нескольких направлений. Клиенты стали дольше засиживаться в кабинках, оттягивая момент расставания с осмелевшими газетными обрывками; на каменных лицах толпящихся в маленьком кафельном холле голубым весенним светом заиграло предчувствие долгожданной свободы, еще далекой, но уже несомненной; громче стали те части матерных монологов, где, помимо Господа Бога, упоминались руководители партии и правительства; чаще стали перебои с водой и светом.
Никто из вовлеченных во все это толком не понимал, почему он участвует в происходящем, – никто, кроме уборщицы мужского туалета Веры, существа неопределенного возраста и совершенно бесполого, как и все ее коллеги. Для Веры начавшиеся перемены тоже были некоторой неожиданностью – но только в смысле точной даты их начала и конкретной формы проявления, а не в смысле их источника, потому что этим источником была она сама.
Началось все с того, что как-то однажды днем Вера первый раз в жизни подумала не о смысле существования, как она обычно делала раньше, а о его тайне. Результатом было то, что она уронила тряпку в ведро с темной мыльной водой и издала что-то вроде тихого «ах». Мысль была неожиданная и непереносимая и, главное, ни с чем из окружающего не связанная – просто пришла вдруг в голову, в которую ее никто не звал; а выводом из этой мысли было то, что все долгие годы духовной работы, потраченные на поиски смысла, оказывались потерянными зря, потому что дело было, оказывается, в тайне. Но Вера как-то все же успокоилась и стала мыть дальше. Когда прошло десять минут и значительная часть кафельного пола была уже обработана, появилось новое соображение – о том, что другим людям, занятым духовной работой, эта мысль тоже вполне могла приходить в голову и даже наверняка приходила, особенно если они были старше и опытнее. Вера стала думать, кто это может быть из ее окружения, и сразу безошибочно поняла, что не надо ходить слишком далеко и надо поговорить с Маняшей, уборщицей соседнего туалета, такого же, но женского.
Маняша была намного старше. Это была худая старушка тоже неопределенных, но преклонных лет; при взгляде на нее Вере отчего-то – может быть, из-за того, что та сплетала волосы в седую косичку на затылке, – вспоминалось словосочетание «Петербург Достоевского». Маняша была Вериной старшей подругой; они часто обменивались ксерокопиями Блаватской и Рамачараки, настоящая фамилия которого, как говорила Маняша, была Зильберштейн; ходили в «Иллюзион» на Фасбиндера и Бергмана, но почти не говорили на серьезные темы; Маняшино руководство духовной жизнью Веры было очень ненавязчивое и непрямое, отчего у Веры никогда не появлялось ощущения, что это руководство существует.
Стоило Вере только вспомнить о Маняше, как раскрылась маленькая служебная дверь, соединявшая оба туалета (с улицы в них вели разные входы), и Маняша появилась. Вера тут же принялась путано рассказывать о своей проблеме; Маняша, не перебивая, слушала.
– ...И получается, – говорила Вера, – что поиск смысла жизни – сам по себе единственный смысл жизни. Или нет, не так – получается, что знание тайны жизни, в отличие от понимания ее смысла, позволяет управлять бытием, то есть действительно прекращать старую жизнь и начинать новую, а не только говорить об этом, – и у каждой новой жизни будет свой особенный смысл. Если овладеть тайной, то уж никакой проблемы со смыслом не останется.
– Вот это не совсем верно, – перебила внимательно слушавшая Маняша. – Точнее, это совершенно верно во всем, кроме того, что ты не учитываешь природы человеческой души. Неужели ты действительно считаешь, что, знай ты эту тайну, ты решила бы все проблемы?
– Конечно, – ответила Вера. – Я уверена. Только как ее узнать?
Маняша на секунду задумалась, а потом словно на что-то решилась и сказала:
– Здесь есть одно правило. Если кому-то известна эта тайна и ты о ней спрашиваешь, тебе обязаны ее открыть.
– Почему же ее тогда никто не знает?
– Ну почему? Кое-кто знает, а остальным, видно, не приходит в голову спросить. Вот ты, например, кого-нибудь когда-нибудь спрашивала?
– Считай, что я тебя спрашиваю, – быстро проговорила Вера.
– Тогда коснись рукой пола, – сказала Маняша, – чтобы вся ответственность за то, что произойдет, легла на тебя.
– Неужели нельзя без этих сцен из Мейринка? – недовольно пробормотала Вера, наклоняясь к полу и касаясь ладонью холодного кафельного квадрата. – Ну?
Маняша пальцем подозвала Веру к себе и, взяв ее за голову и наклонив так, что Верино ухо приходилось точно напротив ее рта, прошептала что-то не очень длинное.
И в эту же секунду за стенами раздался гул.
– Как, и все? – разгибаясь, спросила Вера.
Маняша кивнула головой.
Вера недоверчиво засмеялась.
Маняша развела руками, как бы говоря, что не она это придумала и не она виновата. Вера притихла.
– А знаешь, – сказала она, – я ведь что-то похожее всегда подозревала.
Маняша засмеялась:
– Так все говорят.
– Ну что же, – сказала Вера, – для начала я попробую что-нибудь простое. Например, чтоб здесь на стенах появились картины и заиграла музыка.
– Я думаю, у тебя получится, – ответила Маняша, – но учти, что произойти в результате твоих усилий может что-то неожиданное, совсем вроде бы не связанное с тем, что ты хотела сделать. Связь выявится только потом.
– А что может произойти?
– А вот посмотришь сама.
* * *
Посмотреть удалось не скоро, только через несколько месяцев, в те отвратительные ноябрьские дни, когда под ногами чавкает не то снег, не то вода, а в воздухе висит не то пар, не то туман, сквозь который просвечивают синева милицейских шапок и багровые кровоподтеки транспарантов.
Произошло это так: в уборную спустились несколько праздничных пролетариев с большим количеством идеологического оружия – огромными картонными гвоздиками на длинных зеленых шестах и заклинаниями на специальных листах фанеры. Справив нужду, они поставили двухцветные копья к стене, заслонили писсуары своими промокшими транспарантами – на верхнем была непонятная надпись «Девятый трубоволочильный» – и устроились на небольшой пикник в узком пространстве перед зеркалами и умывальниками. Сильней, чем мочой и хлоркой, запахло портвейном; зазвучали громкие голоса. Сначала доносился смех и разговоры, потом вдруг стало тихо и строгий мужской голос спросил:
– Что ж ты, сука, на пол льешь специально?
– Да не специально я, – затараторил неубедительный тенор, – тут бутылка нестандартная, горлышко короче. А я тебя заслушался. Проверь сам, Григорий! У меня рука всегда автоматически...
Тут раздался звук удара во что-то мягкое и одобрительная матерная разноголосица, но после этого пикник как-то быстро сошел на нет, и голоса, гулко взвыв напоследок с ведущей на бульвар лестницы, исчезли. Тогда только Вера решилась выглянуть из-за угла.
В центре кафельного холла сидел на полу мужичонка с расквашенной мордой и через равные интервалы времени плевал кровью на залитый портвейном кафель. Увидев Веру, он отчего-то перепугался, вскочил на ноги и убежал на улицу, под открытое небо. После него в холле остались мокрая надломленная гвоздика и маленький транспарантик с кривой надписью: «Парадигма перестройки безальтернативна!» Вера совершенно не поняла, какой в этих словах заключен смысл, но долгий опыт жизни ясно говорил: началось что-то новое, и даже не верилось, что это новое вызвано ею. На всякий случай она подхватила гигантский цветок и транспарант и отнесла их в свою каморку, представлявшую собой две крайние кабинки – перегородка между ними была убрана, и места было как раз достаточно, чтобы разместились ведра, швабры и стул, на котором можно было иногда передохнуть.