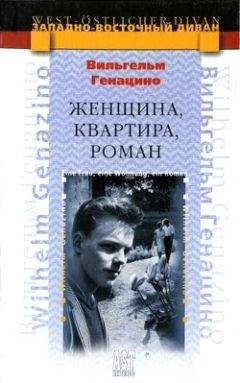Придя домой, я открываю окно, ложусь на пол и включаю телевизор. Показывают какой-то фильм о синелапчатых гусях на Галапагосских островах. Они похожи на обычных домашних гусей и ходят так же, вразвалочку. «Галапагосские острова – идеальное место для выведения потомства, – говорит диктор. – Птицы вьют гнезда прямо на земле, здесь им всего хватает: и водоемов с чистой водой, и рыбы, которой здесь в избытке. Как и их одомашненные сородичи, они довольно неповоротливы, и для того, чтобы поднять в воздух такую значительную массу тела, им требуется длинный разбег». Со стороны этот взлет выглядит не слишком элегантно. Мне нравятся эти синелапчатые гуси, я бы с удовольствием сам стал одним из них. Мне все равно, что по телевизору меня будут называть гусаком, потому что, став синелапчатым, я бы забыл наконец все слова вкупе с их значениями. Тяга к этим пернатым объясняется, вполне вероятно, тем, что их чудные белые тушки напоминают мне о миниатюрном белом теле Марго. А может быть, во всем виновата Регина. После случайной встречи с ней мне вдруг нестерпимо захотелось женского тепла и ласки. Я выключаю телевизор. От рубашки отскакивает пуговица и катится по полу. Я провожаю ее взглядом до тех пор, пока она не останавливается. Слышу, как за стенкой соседские дети обзывают друг друга «сволочью» и «придурком». Точнее, они развели там какое-то буйство, выкрикивая попеременно то «сволочь», то «придурок». Наверное, такие вот детки и довели Лизу до срыва. Мне хочется позвонить Лизе и спросить, как у нее дела, но мне не хочется, чтобы к телефону подошла Рената и мне пришлось бы говорить с ней. В каком-то оцепенении я слушаю крики за стеной: «Сволочь, сволочь!» В новой партии, которую мне выдал Хабеданк, есть одни туфли, которые стоят немыслимых денег, это «Лоуфер», мокасины из натуральной телячьей кожи, с кантиком. Носятся прекрасно. Сейчас около трех. Скорее всего, у Марго уже никого нет, и она хлебает свой суп из тарелки, поставленной в раковину. А кошка наверняка устроилась в левой раковине и спит. Я выхожу из квартиры и направляюсь к Марго. Она, вероятно, удивился, что я так скоро явился опять. Впереди меня идет японка, которая на ходу ест яблоко. Яблоко у нее маленькое, очень подходит к ее рукам, которые тоже очень маленькие, и рот у нее маленький, так что не сразу распознаешь, что это рот. Довольно скоро японка управилась с яблоком и теперь идет, держа огрызок в своей маленькой ручке. Огрызок или обгрызок? В детстве я, помнится, говорил «обгрызок», а потом все-таки стал говорить «огрызок». Или все было наоборот? И почему я с «обгрызка» перешел на «огрызок», непонятно. Мне сегодняшнему совершенно ясно, что никаких оснований для этого не было. Японка заворачивает огрызок в бумажный платок. Мне нужно идти налево, но, поскольку мне хочется посмотреть, что будет дальше с огрызком (обгрызком), я притормаживаю и делаю вид, что никуда не спешу, просто стою тут себе и смотрю. Какое уважение к чужой стране! Японка не может себе позволить бросить свой огрызок (обгрызок) прямо на улицу или зашвырнуть куда подальше. Нет, она засовывает его в свою крошечную сумочку, которая теперь превратилась в огрызочницу. До Марго мне осталось всего несколько шагов. У меня слегка дрожат колени, я чувствую возбуждение. В витрине парикмахерской горят все три неоновые лампы. Вдруг дверь открывается, и на пороге появляется Химмельсбах. Этого мне только не хватало! Химмельсбах идет направо и потому не видит меня. Мне ясно, что путь к Марго для меня теперь закрыт. Возможно, навсегда. Я не могу разглядеть, постриг Химмельсбах себе волосы или нет. Я тихо и бессмысленно ругаюсь про себя на жизнь, которая подсовывает мне сплошные сюрпризы. Впрочем, уже на первом углу я понимаю, что без этих сюрпризов я бы давно умер с тоски. Осмыслив это противоречие, я на какую-то секунду начинаю понимать, что происходит с моими мозгами, когда в них набивается много дури. Если в один прекрасный день, говорю я себе, у тебя окончательно съедет крыша, знай – все дело в таких противоречиях: это же ножницы, которые то разъезжаются, то съезжаются, пока когда-нибудь не почикают тебя окончательно. На голове у Химмельсбаха мягкая шляпа с широкими полями. Тоже мне, художник нашелся! Кажется, я начинаю ревновать, к сожалению, прямо тут, на улице. Вместе с тем мне как-то жалко Химмельсбаха. Сегодня у него еще более потрепанный вид, чем когда я видел его в последний раз. Какое-то время я продолжаю идти за Химмельсбахом, без особого плана. Может быть, он снимет шляпу, тогда мне все станет ясно. Только бы он меня не заметил, мне совершенно не хочется с ним разговаривать. Он не должен знать, что я думаю о нем и Марго. Лучше всего было бы, если бы Химмельсбах сел куда-нибудь на скамеечку, снял шляпу и погрузился бы в размышления, подумал бы о чем-нибудь. Но Химмельсбах не отдыхает на скамеечках и не размышляет, – это у меня так заведено, а у Химмельсбаха нет. Брюки у него, как будто ему кто-то дал их поносить на время. Химмельсбах засовывает руку в карман и достает себе оттуда семечек. Он засовывает семечко за семечком в рот, надкусывает его, а потом ловко очищает одной рукой зернышко от шелухи. Мне не хочется, но я спрашиваю себя, а не подрабатывает ли Марго от случая к случаю проституцией. У меня нет ни малейшего желания размышлять о каких бы то ни было проблемах. Я слишком часто занимался этим в моей жизни и чувствую, что уже стар для этого. Мне хочется чем-то отвлечься. Хорошо было бы пройтись по берегу, постоять у дерева, посмотреть, как свет пробивается сквозь листья. Но берега тут нет, и мне приходится довольствоваться обычными улицами. Надо держать себя в руках, а то ведь все кончится тем, что моя жизнь будет мне казаться сносной только тогда, когда я хожу по улицам. Мне трудно определить по тому, как идет Химмельсбах, переспал он с Марго или нет. Я предпринимаю попытку временно разделиться надвое, чтобы не смешивать между собою нищего бродягу, лишившегося в один день работы и любовницы, с равнодушным прохожим, которому до этого нет ни малейшего дела. Раздвоение прошло успешно, и есть надежда, что оно продержится хоть какое-то время. Во всяком случае я уже начинаю чувствовать запах лип, которые, видимо, растут где-то неподалеку. Чуть позже я обратил внимание на косоглазую собаку, которая протиснулась между двумя припаркованными машинами. Вот не знал, что у животных бывает косоглазие. Собака протрусила мимо меня, мне не удается поймать ее взгляд, как невозможно поймать взгляд человека, страдающего косоглазием. Я бесконечно благодарен этому псу за то, что он помог мне развеяться. И по той же причине я благодарен учительнице. Она стоит на трамвайной остановке с группой школьников. Вдруг я слышу, как она говорит своим ученикам: «Не растягивайтесь по всей остановке, заняли всё место, людям не встать!» Это замечание убивает всю мою симпатию к учительнице. Мне удается почувствовать глубокое внутреннее возмущение, какого я уже давно не испытывал. «Заняли всё место», – бурчу я себе под нос, вот с таких фразочек все и начинается. Учительница обращается с детьми как с зонтиками или складными стульями, которые можно засовывать куда угодно, хочешь – сюда ткнул, хочешь – туда. И чего тогда удивляться, что некоторые люди с детских лет упорно отказывают себе в праве на жизнь? Раздвоение сознания постепенно начинает сходить на нет. Фрагменты вытесненных впечатлений возвращаются назад. Теперь я не просто иду, я иду и чувствую, как во мне причудливым образом соединяются тоска и оцепенение. Я откровенно признаюсь себе в том, что мне будет больно, если я никогда больше не смогу увидеться с Марго. Я ругаю ее почем зря, но легче мне от этого не становится. Дорогая моя Марго, ну почему тебе обязательно нужно было связаться с Химмельсбахом? Мне приходит в голову выражение, которое я, когда мне было лет шестнадцать, употреблял про себя применительно к медсестрам, секретаршам и парикмахершам: чем глупее баба, тем она трахучей. Выражение это придумал не я, я его где-то подхватил, не имея тогда ни малейшего представления ни о медсестрах, ни о секретаршах, ни о парикмахершах, ни о каких бы то ни было других особах женского пола вообще. Я пытаюсь подсунуть воспоминание об этом выражении отколовшемуся двойнику, но, к сожалению, безуспешно. Ведь это я, а не кто-нибудь другой вздыхает, вспоминая эту житейскую мудрость. Больше всего мне хочется прямо сейчас побежать к Марго и признаться ей, каким бесконечно наивным глупцом я был в свои шестнадцать лет. Хорошо еще, за всей этой несуразицей, что вертится у меня голове, я потерял Химмельсбаха из виду Я спрашиваю себя, имеют ли отношение к моей жизни или нет все эти настроения, которые в настоящий момент захватили меня. Я настолько погрузился в себя, что у меня почти не осталось сил. Я со всего размаху впиливаюсь в припаркованную машину и больно расшибаю себе правую коленку. Меня отвлекают двое мальчишек, которые проходят у меня перед самым носом и говорят вместо жевательной резинки «жувачка». Только бы мне не застрять туг, – ведь сейчас возьму, остановлю мальчишек и попрошу их впредь не употреблять слова «жувачка», а пользоваться словосочетанием «жевательная резинка». Означало бы это, что я начинаю сходить с ума? При этом я не хочу ни жаловаться, ни предостерегать. Девяносто пять процентов людей только и делают, что жалуются и предостерегают, мое высокомерие удерживает меня от всяких контактов с ними. Мне же всего-навсего хочется проклясть как следует сегодняшний день и жить себе дальше. Хотя нет, проклятие тут ни при чем, мне просто хочется поскорее избавиться от странностей сегодняшнего дня. Как такое может быть? Я изнываю от тоски по какой-то парикмахерше, с которой виделся раз десять и о которой ровным счетом ничего не знаю, кроме того, как ее зовут; я умираю от ревности к какому-то недоделанному фотографу, я горюю по поводу работы, которая меня все равно не кормила, и все это в течение одного-единственного дня! У меня складывается впечатление, что мне, ввиду всех этих странностей, пожалуй, не стоит идти домой. Я сажусь на деревянную скамейку и смотрю на соседние кусты. Они мне очень нравятся, потому что ничего не выражают, кроме того, что они заняли тут определенную позицию, и всё. Мне хочется быть таким, как эти кусты. Они все время находятся на одном и том же месте, они оказывают сопротивление, и это выражается в том, что они никуда не исчезают, не жалуются, не разговаривают, им ничего не нужно, их практически ничем не возьмешь, они непобедимы. Мне захотелось снять куртку и, размахнувшись как следует, запустить ее в кусты. Таким образом мне, быть может, удалось бы приобщиться к их стойкости. Мне нравится даже само слово «кусты». А что, если это и есть то самое, единственное слово, которое я так давно ищу, чтобы обозначить глобальную странность жизни. Кусты выражают мою боль, не заставляя меня при этом напрягаться. Я смотрю на пыльные спутанные листья, на которые налипли засохшие комки птичьего помета, я смотрю на ободранные или поломанные детьми ветки, которым от этого как будто ничего не делается, я смотрю на противный мусор, который забился к ним внутрь, но при этом нисколько им не мешает. Если чувство странности сегодняшнего дня совсем разгуляется, я, пожалуй, пойду и засуну свою куртку в кусты. Мне хочется видеть свою куртку в кустах, пусть это будет такой знак. Простой и ясный образ, который вместе с тем никто не поймет. Я буду приходить сюда, когда мне захочется, я буду идти мимо своей куртки, смотреть и удивляться, как она, несмотря на то что ей все время придется преодолевать боль, – из-за чего она, конечно, будет дряхлеть и становиться все более обшарпанной, – как она, несмотря на все это, на самом деле будет проявлять чудеса стойкости и непобедимости, совсем как эти кусты. Я же буду восхищаться своей курткой, как своим двойником, которому удалось выжить, и это, во всяком случае на какое-то мгновение, избавит меня от боли. Хотя при этом нельзя исключить, что именно в эти мгновения я начну сходить с ума. А вот что можно сказать со всею очевидностью, так это то, что я определенно сошел бы с ума, если бы я действительно забросил свою куртку в кусты. В настоящий момент я от этого пока воздерживаюсь. Я с удовольствием представляю себе, как это будет выглядеть, если я сойду с ума, что должно мне помочь продолжать жить без особых эксцессов. Впрочем, ничего страшного, если на какое-то время, скажем на несколько минут, воображаемое безумие трансформируется в настоящее, что позволит мне удалиться от действительности на еще большее расстояние. Важно при этом, чтобы я в любой момент мог вернуться к своей игре в воображаемое безумие, как только настоящее безумие подступит слишком близко. Вполне вероятно, в процессе этого эксперимента выяснится, что человек может чувствовать себя счастливым только тогда, когда у него есть возможность свободного выбора между воображаемым и реальным безумием. Я, кстати, уже давно заметил, что люди от природы имеют склонность к душевным заболеваниям. Я только удивляюсь, отчего столько людей не могут, наконец, признаться в том, что их нормальность только наигранна. Вот взять хотя бы семью, которая проходит сейчас мимо меня, – все признаки группового безумия налицо. Один мужчина, одна женщина и одна старушка идут и потешаются над маленьким ребенком. Ребенок совсем еще кроха, он сидит в коляске и ничего не умеет. Он не умеет держать голову, он не умеет хватать, он не умеет толком открыть рта, он не умеет глотать. Всякий раз, когда ребенок чего-то не умеет (в настоящий момент у него изо рта вытекает слюна), мужчина, женщина и старушка приходят в неописуемый восторг. Им невдомек, что их пошлый восторг оскорбителен для младенца, хотя, будь они повнимательней, они бы увидели, что их чадо беспокойным блуждающим взором ищет в неведомых далях, куда бы ему скрыться. Наблюдение за поведением этого безумного семейства помогает мне, как это ни странно, вернуться в реальность. Только младенец как-то совсем завалился в коляске, миллиметр за миллиметром он все больше сползает вниз. Я застегиваю куртку и отправляюсь домой. Безумное семейство удаляется, радостно повизгивая.