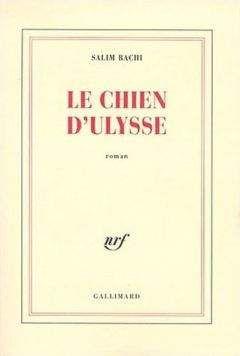Когда заканчивались занятия, она тихонько стучала в дверь комитета: два легких удара, потом два посильнее — так они условились; он открывал. Снаружи эвкалипты сжигали солнце и бросали пламя в комнату, мешкать было нельзя; только избегать взглядов друг друга, слушать, как стонут огненные деревья; раздавались гулкие шаги последних студентов, потом они затихали в отдалении, из университета уходили Молодые силы, и эвкалипты пели о своем страдании на теплом ветру, который трепал росшую под окном бугенвиллею.
Мурад услышал, как он чужим голосом говорит:
— Итак, алкоголь, секс и любовь мы вычитаем. Что остается?
Ничего. Планов нет. Работы нет. Денег нет. Нелегко себе в этом признаться.
Она обнимала его, она, о которой и подумать было нельзя, что она уступит, — никогда, никогда. «Никогда», — бросила она как-то давно, вечером, когда он в первый раз задержал ее здесь, в помещении комитета.
Он всегда носил с собой запасные ключи, как талисман, и она приходила, они растягивались прямо на линолеуме, сначала она отказывалась, ее мучила совесть, она не могла больше смотреть в глаза мужу, а он, что он об этом думает? Он не думал, он зарывался лицом в ложбинку между ее бедрами. «Ты никому не скажешь?» — брала она с него слово. «Нет, никому», — повторял он. «Даже твоему другу?» — «Нет, никому». И он целовал ее в губы, еще полные горячих, влажных капель, что катились по его телу; она садилась на него верхом, с отрешенным лицом, с закатившимися глазами, — нет, никому, — и он любил ее; так зачем же делить?
Как ей сказать? Сказать, чтобы она принадлежала только ему, ее напряженное лицо и ноги, ему, ему, в сумерках, которые, порозовев от бугенвиллеи, пробирались в комнату, скользили по зеленому линолеуму, погружали его в тень и рисовали на ее груди мягкие переливы дня, умиравшего вместе с ее дыханием и ароматом цветов.
Голос Мурада, доносившийся словно из металлической коробки:
— Общество порождает свои идеалы: экономический успех для одних, интеллектуальный — для других.
Не следует ли упомянуть и телесный успех?
— Но наше общество ничего не в состоянии породить, — продолжал Мурад. — Оно вырождается. Вы смеетесь. Право, здесь нечему смеяться. Посмотрите вокруг. Уличный торговец без лицензии на торговлю…
А еще любовник без лицензии на любовь.
— … у такого торговца больше шансов чего-то добиться, чем у того, кто двадцать лет жизни потратил на учебу, — продолжал чужой голос.
— Так мир устроен, — сказал майор Смард.
— Ты не умеешь на них смотреть, — шептала она, — женщины не любят, чтобы их анатомировали взглядом, мы же не насекомые, и ее стрекозиные ноги поясом обхватывали его талию, он носил в себе гордыню самца, которая покоряла ее и вливалась в ее сосуды, гордая кровь, совершенная кровь, и текла по ним, как пурпурный день по распечатанным, словно письма, квадратам линолеума. Нет, она никогда, не будет принадлежать ему, — никогда, слышишь? — и она запрокидывала голову, распущенные волосы скользили по его бедрам, по животу, по груди, падали ему на колени.
— Мир плохо устроен, — поправил Мурад. — Если вам интересно мое мнение, то мир стоит того, чего он стоит. А что касается травки — сами понимаете… Теперь, когда границы стали прозрачнее, этому помешать невозможно.
Нас уже ничто не удерживает: ни смертный час, ни груди страшной старухи — ничто не остановит мгновения, готового разлететься в пыль, и все погибнет, и ты меня погубишь, твердила она, ты запятнаешь мое имя, и она плакала в его объятиях, сломленная страданием, клялась никогда больше сюда не приходить, и все-таки он ждал, сердце выскакивало у него из груди, щеки пылали, и она вновь стучалась в ту же дверь, открытую в последний раз, это так и было, сумерки могли бы рассказать об этом ночи.
Мурад замолчал. Его окутывал голубоватый свет. У него за спиной, на солнце, начинал посвистывать ветер. Шелестели деревья. Сегодня утром он ощутил укол совести. Но не отступил от роли образцового студента. Ложь. Этот человек его ценил, ее муж был к нему привязан, словно в плохих романах. Они делили между собой одну женщину, одно ложе, теперь оскверненное. Он его любил, он был в этом уверен, и они разговаривали, спорили, там были еще журналист и Хосин, который ничего не знал, до сих пор считал его… Но ни о чем ему не говорить, не компрометировать ее, нет, главное — молчать.
Мурад услышал, как голос отчетливо произнес:
— Лучший из миров был бы компромиссом между ульем и клубком гадюк.
Пожалуй, сам он стал бы трутнем. Или гадюкой. Он не избежал рокового притяжения и, как все они, склонялся в сторону зла, сейчас ничто не удерживало его от падения, и он мечтал об улье, где они исполняли бы заранее назначенные роли, где правила, установленные задолго до их появления на свет, соблюдались бы, хотя никто и не подозревал об их существовании и смысле; однако по ночам гадюки сползались в его кошмарные сны, тогда, весь в поту, он просыпался и набрасывался на лист бумаги, писал и писал, выпускал целые вереницы слов, как ему казалось, не связанных логически, однако, перечитывая написанное по прошествии многих дней, он находил в нем смысл, который задавали слова, сцепляясь друг с другом на странице помимо его желания, и листки накапливались по мере того, как из ночи в ночь сменяли друг друга о кошмары, под диктовку женщины, которую подгоняло то ли время, то ли обманутый муж, решивший предать ее смерти на рассвете.
— Вы преувеличиваете! — воскликнул майор.
— Не так уж сильно, — парировал Мурад. — Приглядитесь-ка, чего они хотят!
— Кто?
— Воины Аллаха, — насмешливо сказал Мурад.
— И чего же они хотят? — спросил майор Смард, изобразив заинтересованность.
— Порядка, — обронил Мурад и снова подошел к окну.
Майор Смард, повернув голову, следил за ним глазами.
— Но поступают они совсем иначе.
— Так значит, вы ничего не поняли! — запальчиво выкрикнул Мурад. — Им не больше моего хочется, чтобы продавец сигарет стал властителем умов. Но только они тоже больны. Больны куда серьезнее, чем думают.
— Чума, — сказал я. — Древняя чума.
— Вы их, кажется, любите, — заметил майор Смард.
— Я их ненавижу, — ответил Мурад.
Я декламирую:
— Наш город, сам ты видишь, потрясен ужасной бурей и главы не в силах из бездны волн кровавых приподнять. Зачахли в почве молодые всходы, зачах и скот, и дети умирают в утробах матерей. Бог-огненосец — смертельный мор — постиг и мучит город. Пустеет Кадмов дом, Аид же мрачный опять тоской и воплями богат.[17]
Все молчали. Снаружи солнце время от времени исчезало за трепещущими эвкалиптами. Комната качалась от света к мраку и от него — к полутьме.
— Крыло трагедии простерлось над нами, — сказал наконец Мурад.
— Вы ошибаетесь, — возразил майор тайной полиции. — Наше государство крепкое. Оно сопротивляется. Каждый день наши люди выходят на бой с опасностью и отражают ее атаки.
— Война — кривое зеркало, — ответил Мурад. — Мы сами похожи на то, с чем воюем.
— Неужели вы хотите сказать, что я ничем не лучше этих головорезов?!
Майор Смард казался оскорбленным.
— Понимайте как вам угодно.
— С высоты своих двадцати лет вы нас поучаете. Вы бы сначала жизнь прожили, молодой человек.
— Я прожил.
— Вы не знаете своих врагов. Неужели вы думаете, что они позволили бы вам так рассуждать?
Мурад не ответил.
— В таком случае, зачем все эти речи? — продолжал майор Смард.
— А зачем запрещать мне говорить? — спросил Мурад.
— Да я вам в жизни не… Ох уж эти высоколобые! Ну будьте же хоть когда-нибудь реалистами!
— А вот это не наша миссия, — сказал Мурад.
— В чем же вы видите свою миссию? — вопросил майор Смард, скрестив руки на груди.
— Заставлять дьявола и Господа Бога вести диалог.
— Хватит! Ничего из нашего разговора не выйдет. Я должен идти.
Майор Смард встал.
— Сегодня вечером, если не возражаете, встретимся в «Шемс Эль-Хамра».
— Без меня, — фыркнул Мурад.
Я, ничего не сказав Мураду, принял приглашение майора. Мы с ним увидимся в самом популярном ночном клубе Цирты. Мне интересны сомнительные заведения и люди, которые туда, ходят. У меня обостренный вкус к приключениям: поиск новизны, граничащий с риском погубить душу. Майор вышел. Солнце ворвалось в комнату. Ветер снаружи стих. Мурад все стоял у окна. Над его головой небо, лицо тонет в серебристых лучах. Он смотрел на нас, раскачиваясь с пяток на носки и обратно. Он что-то бормотал. Сказанные шепотом неразличимые слова, потерянная навсегда песня…
От полудня до четырех часов мы с Мурадом праздно бродили по парку. Махнув рукой на занятия, по большей части бессмысленные, мы плыли в пене дней. Это выражение, конечно, ничего не значит, но в те часы безделья бег корабля, море и его кипящие волны вытеснили из моего сознания все прочие образы. Под небом Африки полуденные часы порой так тягучи, так томительны, что им подобает растекаться морскими метафорами. Молчание Мурада принуждало к сдержанности и меня. Мне не хотелось отвлекать его от грез. О чем он мечтал? О вихревращении света, изливавшегося на нас стеклянными блестками? Этот свет сокрушал нас всей тяжестью своей подлинности. Или о Цирте? Сейчас мне страшно было оставаться ее полновластным хозяином. Только для меня, мрачного, одинокого, сбрасывала туфельки ночная бабочка. Только для меня замарашка садилась в карету, мгновение назад бывшую тыквой. Сказка? Но тогда кто же записывал каждый шаг моего беспорядочного отступления? Мои колебания, сомнения?