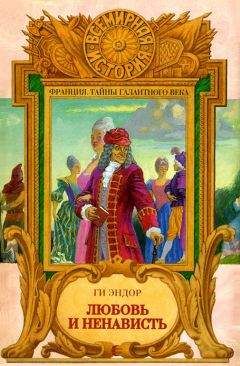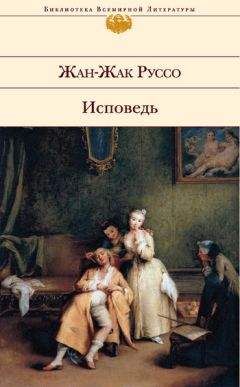До сих пор Жан-Жак не верил, что эти строчки принадлежат Вольтеру. Теперь все яснее понимал, что ходит по лезвию ножа. Ему вовсе не нравилось шагать по канату великого над пропастью смешного. Раскачиваясь из стороны в сторону от дуновения любой язвительной шутки Вольтера, он мог в любой миг сорваться и свалиться — тогда его осмеют как неловкого, неудачливого клоуна. Известно, что Париж невозможно долго удивлять одним и тем же. Те, кто так восторженно принимали его еще вчера, сегодня могут с презрением от него отвернуться.
Ну а каков финал его славы?
Ладно, он всем еще покажет! Он намерен доказать этим парижанам, что перед ними человек, который умеет отстаивать свои убеждения. Человек, для которого жизнь — далеко не шутка и не дешевая игра. Наконец, он — человек, который готов защищать свою позицию даже ценой собственной жизни.
«Vita impendere vero!» Эта фраза на латыни станет его лозунгом: «Я посвятил свою жизнь истине!»
Позднее, когда он стал известным человеком, семья Дюпенов приняла решение отметить заслуги своего секретаря и помочь ему жить соответственно его репутации. Зять мадам, тот самый месье де Франкей, вместе с которым Руссо посещал курсы химии, предложил ему еще одну должность — главного бухгалтера семейной фирмы.
Дюпены являлись членами небольшого круга откупщиков и ежегодно участвовали в торгах для получения права собирать налоги на территории всей Франции. Жан-Жак, ставший главным бухгалтером одной из таких групп, мог рассчитывать на большие деньги. Генеральные откупщики, как их обычно называли, каждый год прикидывали сумму будущих налогов, а когда получали, немедленно сдавали во Французское казначейство, постоянно испытывавшее дефицит в «живых деньгах». Все, что собирали сверх этой суммы (обычно шесть миллионов франков), они приписывали себе. Поэтому такие семьи, как Поплиньеры, Дюпены, Сен-Джеймсы, Лавуазье, жили на широкую ногу, почти ни в чем не уступая ни знатным герцогам, ни самому королю. Как главный бухгалтер Руссо с полным основанием надеялся приобрести небольшую долю прибылей. Со временем он, возможно, даже станет полноправным партнером. Остроумный философ Гельвеций[73], сын доктора, нажил на этом целое состояние. Почему же не попытаться ему, Руссо?
Но можете себе представить, какой эпиграммой на это откликнется Вольтер! Жан-Жак — сборщик налогов! Руссо торопливо написал Дюпенам прошение об отставке. Он мог, конечно, оставаться личным секретарем мадам, так как его услуги вполне соответствовали жалованью. Но ни в коем случае — бухгалтером!
Дюпены остолбенели. Они предложили ему эту должность не только как вознаграждение, они оказали ему честь, выказали свое восхищение. Все семейство явилось к Руссо, чтобы выяснить причину отказа. Они просили еще раз хорошенько подумать. Но Руссо уже все решил.
— Как я могу проповедовать свободу, бескорыстие и нищету, если сам не следую своим принципам, — объяснял он. — Разве можно обвинять мир в лицемерии, оставаясь лицемером? Люди должны убедиться, что в этом лишенном твердых убеждений мире существует хотя бы один человек, который не боится их защищать.
Дюпены настаивали.
— Вы, наверное, не видели того, что пришлось наблюдать мне: крестьяне порой вынуждены прятать хлеб, вино, мясо только потому, что сборщики налогов могут пронюхивать, что они не умирают с голоду? Это я должен удивляться тому, что вы не подаете в отставку, а продолжаете жить на доходы, получаемые от такой несправедливости. Нет, когда речь идет о выборе: на чьей я стороне — угнетателей или угнетенных, — я не стану колебаться ни минуты.
Напрасно Дюпены пытались заверить Руссо, что не они устанавливают законы о налогообложении. Они просто принимают участие в торгах на право их сбора.
— Если мы подадим в отставку, кто же будет их собирать? Возможно, нам на смену придут более свирепые, более жестокие люди. Может, мы тем самым сослужим этим страдальцам дурную службу?
Жан-Жак в ответ только пожал плечами. На этот вопрос он не желал отвечать. Он знал только одно: он сам должен прислушиваться к голосу совести. По Парижу поползли разговоры об удивительном, добродетельном, неподкупном человеке.
К нему пришли Дидро, Гримм, Клюпфель, Дюкло[74], чтобы узнать, в чем, собственно, дело. Они интересовались, как Руссо теперь намерен сводить концы с концами. Сочинительством больших денег не заработаешь. Ну, что он получил от своего эссе, кроме популярности?
— Я считал, мне повезло, что удалось найти издателя для тебя. Писсо согласился напечатать твою книжицу бесплатно, за свой счет. А все другие требовали деньги. Ведь никто не был уверен, что удастся продать хотя бы дюжину экземпляров.
Руссо не мог отрицать этого. Он знал, как мало денег приносит торговля книгами. По крайней мере для автора. Он мог надеяться только на славу или на патрона, способных возместить расходы на издание книги, а может быть, на королевскую стипендию?
От издателей нельзя было ждать многого. И не по их вине. Они сами никогда не знали, получат ли прибыль. Как только появившаяся книга начинала расходиться, ее немедленно издавал кто-то другой, ставя на обложке вместо «Парижа» «Лондон», «Женеву» или «Гаагу», делая вид, что речь идет об издании, контрабандным путем попавшем в страну. Если автор заказал издателю определенное количество экземпляров своей книги, он постоянно должен быть начеку. Нечестный издатель мог тайно отпечатать дополнительный тираж книги и конкурировать на рынке со своим клиентом. Что касается пьес, автор получал небольшую сумму от столичных театров, но если пьеса пользовалась успехом, ее немедленно ставили во всех странах Европы, и за это уже никто не платил никаких гонораров. Мало того, издатели частенько посылали своих стенографов в театры, где шли популярные пьесы, и они появлялись в виде брошюрки на следующее же утро после премьеры. За это автор опять-таки не получал ни гроша. Известны истории о том, как Вольтер отомстил таким горе-издателям. Когда, например, он хотел напечатать свой философский роман «Задиг», отправил одному издателю только нечетные страницы, а другому — только четные. При этом он писал и тому, и другому, что в руках у них полный текст. Выкупив набор, он нанял одну смышленую женщину, которая, ловко орудуя простой иглой, соединила все страницы. Таким образом, только у Вольтера оказались полные, без купюр экземпляры, которые он и отправил в продажу. А два одураченных издателя предлагали купить ущербные экземпляры покатывавшейся со смеху публике.
Издатели проклинали Вольтера, а он всласть посмеялся над теми, кто долгие годы его надувал.
— Я буду делать то, что делают люди в этом мире, чтобы на столе у меня всегда была еда, — сказал Руссо. — Разве вы ничего не слышали о честном труде?
— Ну и какой честный труд будешь выполнять ты? — поинтересовались друзья.
— Я умею аккуратно переписывать ноты.
Такой ответ явно пришелся не по вкусу ни Дидро, ни Гримму, ни другим. Казалось, своим ответом Руссо обвинял в нечистоплотности. Таким образом он словно зачислял их в разряд паразитов. Это в какой-то мере было справедливо, хотя бы по отношению к Гримму, который благодаря своей корреспонденции завязал тесные связи с самыми знатными домами Европы и в конце концов добился титула австрийского барона, звания русского полковника, получил бесчисленное множество всяческих наград.
Клюпфель написал «Альманах Готы» — книгу, которая прослыла самой снобистской вещицей того времени.
И даже Дидро, этот демократ, сын буржуа, производителя хирургических инструментов, не был безукоризненно честен. Когда русская императрица Екатерина II купила его библиотеку[75] за шестьдесят тысяч франков и оставила все приобретенные книги в его пользовании, Дидро был несказанно счастлив. Он установил в центре своей гостиной бюст Екатерины Великой, молился перед ним и сочинял панегирики[76] в честь этой августейшей особы.
Приятели Руссо даже не могли себе представить, что он решил жить на два франка в день — больше за переписку нот не давали. Упреки Руссо привели к тому, что дружба талантливых, небогатых молодых писателей дала глубокую трещину, которой в будущем суждено было превратиться в пропасть. Особенно это касалось Дидро. Жан-Жак не уступал.
— Переписка нот, — поучал он, — это высоко ценимое искусство. Это — честная профессия. Это полезная профессия. И здесь я никому не могу причинить вреда.
— Почему ты так думаешь? — возражал Дидро. — Возьми, к примеру, переписчика, которого я нанимаю, когда мою собственную писанину невозможно разобрать из-за постоянных исправлений. Этот бедный человек стучится ко мне два-три раза в неделю, чтобы осведомиться, нет ли для него работы. Совсем недавно, когда у меня возникла срочная необходимость в переписчике, я сам отправился к нему и увидел, в каких ужасных условиях живет мой бедный помощник. Это трудно назвать комнатой. Комнату он себе не может позволить, он снимает лишь ее часть — самую невзрачную, самую грязную, — ты себе и представить не можешь! Он снимает угол, отделенный от остального пространства почти истлевшей от времени занавеской. И там нет абсолютно никакой мебели — только матрац, на котором он спит. Там же стопкой стоят его книги — Вергилий[77] и Гораций, он их очень ценит. Несколько книг — вот все состояние моего переписчика, он их постоянно перечитывает.